Внимание! Этот текст находится в процессе редакции и адаптации для публикации на сайте. Настоящая версия предоставлена для предварительного ознакомления и может содержать неточности.
Кларификация как метод понимающей психотерапии
Анализируются структура, вариации и функции метода кларификации, который входит в «алфавит» базовых техник понимающей психотерапии. Делается вывод, что развитие психотерапевтической техники может идти по пути обогащения её элементами операторского мастерства, изобразительно-выразительными средствами литературного творчества и других видов искусств.
Ключевые слова: понимающая психотерапия, психотехническая единица, переживание, сопереживание, кларификация, сознавание.
Данная статья — предпоследняя в серии работ, посвященных описанию «технологического алфавита» понимающей психотерапии [6]. В базовой схеме [9] переживание рассматривалось как внутренняя работа пациента, протекающая на четырех уровнях сознания, каждому из которых соответствует особый модус сопереживающего понимания психотерапевта. Сочетание уровней построения переживания клиента и методов сопереживания терапевта образует систему базовых психотехнических единиц понимающей психотерапии — «рефлексия — майевтика», «непосредственное переживание — эмпатия», «сознавание — кларификация», «бессознательное — интерпретация».Ранее были проанализированы две из них (см. [4], [7]), предмет нынешней статьи — психотехническая единица «сознавание — кларификация».
Понятие сознавания фиксирует такой режим функционирования сознания, к которому относятся активные, произвольные и целенаправленные формы психических процессов. Этот уровень обозначался в психологических теориях понятиями «волевое течение мысли» (В. Джемс), «вторичные процессы» (З. Фрейд), «объективация» (Д.Н. Узнадзе), «уровень презентации» (А.Н. Леонтьев) и др. Нам уже приходилось обсуждать роль процессов этого уровня в смысловой работе переживания и особенности их использования в различных психотерапевтических системах [6], [9]. Поэтому настоящая статья концентрируется преимущественно на втором элементе обсуждаемой психотехнической единицы — методе кларификации.
Термин «кларификация» встречается чаще всего в психоаналитической и недирективной психотерапии. В психоанализе это одна из четырех процедур анализа как такового, стоящая в ряду: конфронтация — кларификация — интерпретация — проработка. Задача конфронтации — показать пациенту, что он избегает какого-то феномена, и побудить выделить его среди других содержаний сознания, для того чтобы его можно было подвергнуть анализу. Кларификация подхватывает эту работу, её задача — поместить значимые детали анализируемого содержания в фокус сознания и тем добиться его прояснения. Эти процедуры готовят содержания для последующей интерпретации как главного психоаналитического метода [13].
Технику кларификации описывают как недирективную процедуру, в которой терапевт ясно и точно отображает высказывание пациента, воздерживаясь от установления связей с другими фактами или высказываниями, от оценки и собственной экспрессии [13; 220].
Когда в руководствах по психотерапевтическому интервью кларификация рассматривается не как техника, а как задача, то в качестве инструмента её решения описываются те или другие варианты парафразирования [15]. По Л. Браммеру, кларификация и парафразирование соотносятся иным образом. Сообщение пациента может быть настолько запутанным и туманным, что странно было бы пытаться его пересказывать (парафразировать). Именно тогда необходима кларификация, которая состоит из двух тактов: 1) признание терапевтом своего непонимания; 2) попытка высказать предположение относительно смысла высказывания или просто попросить пациента повторить, пояснить или привести пример [17; 73].
Представление о кларификации, предлагаемое в данной статье, имеет свою специфику. Она определяется прежде всего тем, что кларификация задается как системное понятие в контексте целостной модели базовых психотехнических единиц понимающей психотерапии. Это позволяет и переосмыслить задачи кларификации, и усовершенствовать её технику.
В понимающей психотерапии, повторим, в качестве главного продуктивного процесса, который обеспечивает в конечном счёте терапевтические эффекты, рассматривается внутренняя деятельность переживания пациента. В её осуществлении участвуют одновременно процессы всех уровней сознания — рефлексии, бессознательного, непосредственного переживания и сознавания. Каждый из соответствующих методов (майевтика, интерпретация, эмпатия и кларификация) фасилитирует работу переживания на определённом уровне сознания.
Кларификация так настраивает «смысловой слух» психотерапевта, чтобы он улавливал прежде всего волны актов сознавания. Это означает особое прочтение высказывания пациента — как если бы оно повествовало о действиях субъекта или объектах, наполняющих его жизненный мир. Общая задача проясняющих реплик, в отличие от эмпатических, — отображать не то, что клиент чувствует по поводу ситуации, а образ самой ситуации и действия субъекта в ней.
Структура кларификации включает в себя следующие основные элементы — оператор понимания, персону, действие, образ ситуации и Другого. В таблице дан условный пример проясняющей реплики.
Проясняющие реплики не обязательно должны содержать все элементы этой структуры. При построении такого типа реплик смысловое ударение делается, как сказано, либо на действии субъекта, либо на предметном описании ситуации.
Рассмотрим последовательно вариации элементов этой структуры, попутно отмечая возможные психотерапевтические функции данных вариаций.
Ключевые слова: понимающая психотерапия, психотехническая единица, переживание, сопереживание, кларификация, сознавание.
Данная статья — предпоследняя в серии работ, посвященных описанию «технологического алфавита» понимающей психотерапии [6]. В базовой схеме [9] переживание рассматривалось как внутренняя работа пациента, протекающая на четырех уровнях сознания, каждому из которых соответствует особый модус сопереживающего понимания психотерапевта. Сочетание уровней построения переживания клиента и методов сопереживания терапевта образует систему базовых психотехнических единиц понимающей психотерапии — «рефлексия — майевтика», «непосредственное переживание — эмпатия», «сознавание — кларификация», «бессознательное — интерпретация».Ранее были проанализированы две из них (см. [4], [7]), предмет нынешней статьи — психотехническая единица «сознавание — кларификация».
Понятие сознавания фиксирует такой режим функционирования сознания, к которому относятся активные, произвольные и целенаправленные формы психических процессов. Этот уровень обозначался в психологических теориях понятиями «волевое течение мысли» (В. Джемс), «вторичные процессы» (З. Фрейд), «объективация» (Д.Н. Узнадзе), «уровень презентации» (А.Н. Леонтьев) и др. Нам уже приходилось обсуждать роль процессов этого уровня в смысловой работе переживания и особенности их использования в различных психотерапевтических системах [6], [9]. Поэтому настоящая статья концентрируется преимущественно на втором элементе обсуждаемой психотехнической единицы — методе кларификации.
Термин «кларификация» встречается чаще всего в психоаналитической и недирективной психотерапии. В психоанализе это одна из четырех процедур анализа как такового, стоящая в ряду: конфронтация — кларификация — интерпретация — проработка. Задача конфронтации — показать пациенту, что он избегает какого-то феномена, и побудить выделить его среди других содержаний сознания, для того чтобы его можно было подвергнуть анализу. Кларификация подхватывает эту работу, её задача — поместить значимые детали анализируемого содержания в фокус сознания и тем добиться его прояснения. Эти процедуры готовят содержания для последующей интерпретации как главного психоаналитического метода [13].
Технику кларификации описывают как недирективную процедуру, в которой терапевт ясно и точно отображает высказывание пациента, воздерживаясь от установления связей с другими фактами или высказываниями, от оценки и собственной экспрессии [13; 220].
Когда в руководствах по психотерапевтическому интервью кларификация рассматривается не как техника, а как задача, то в качестве инструмента её решения описываются те или другие варианты парафразирования [15]. По Л. Браммеру, кларификация и парафразирование соотносятся иным образом. Сообщение пациента может быть настолько запутанным и туманным, что странно было бы пытаться его пересказывать (парафразировать). Именно тогда необходима кларификация, которая состоит из двух тактов: 1) признание терапевтом своего непонимания; 2) попытка высказать предположение относительно смысла высказывания или просто попросить пациента повторить, пояснить или привести пример [17; 73].
Представление о кларификации, предлагаемое в данной статье, имеет свою специфику. Она определяется прежде всего тем, что кларификация задается как системное понятие в контексте целостной модели базовых психотехнических единиц понимающей психотерапии. Это позволяет и переосмыслить задачи кларификации, и усовершенствовать её технику.
В понимающей психотерапии, повторим, в качестве главного продуктивного процесса, который обеспечивает в конечном счёте терапевтические эффекты, рассматривается внутренняя деятельность переживания пациента. В её осуществлении участвуют одновременно процессы всех уровней сознания — рефлексии, бессознательного, непосредственного переживания и сознавания. Каждый из соответствующих методов (майевтика, интерпретация, эмпатия и кларификация) фасилитирует работу переживания на определённом уровне сознания.
Кларификация так настраивает «смысловой слух» психотерапевта, чтобы он улавливал прежде всего волны актов сознавания. Это означает особое прочтение высказывания пациента — как если бы оно повествовало о действиях субъекта или объектах, наполняющих его жизненный мир. Общая задача проясняющих реплик, в отличие от эмпатических, — отображать не то, что клиент чувствует по поводу ситуации, а образ самой ситуации и действия субъекта в ней.
Структура кларификации включает в себя следующие основные элементы — оператор понимания, персону, действие, образ ситуации и Другого. В таблице дан условный пример проясняющей реплики.
Проясняющие реплики не обязательно должны содержать все элементы этой структуры. При построении такого типа реплик смысловое ударение делается, как сказано, либо на действии субъекта, либо на предметном описании ситуации.
Рассмотрим последовательно вариации элементов этой структуры, попутно отмечая возможные психотерапевтические функции данных вариаций.
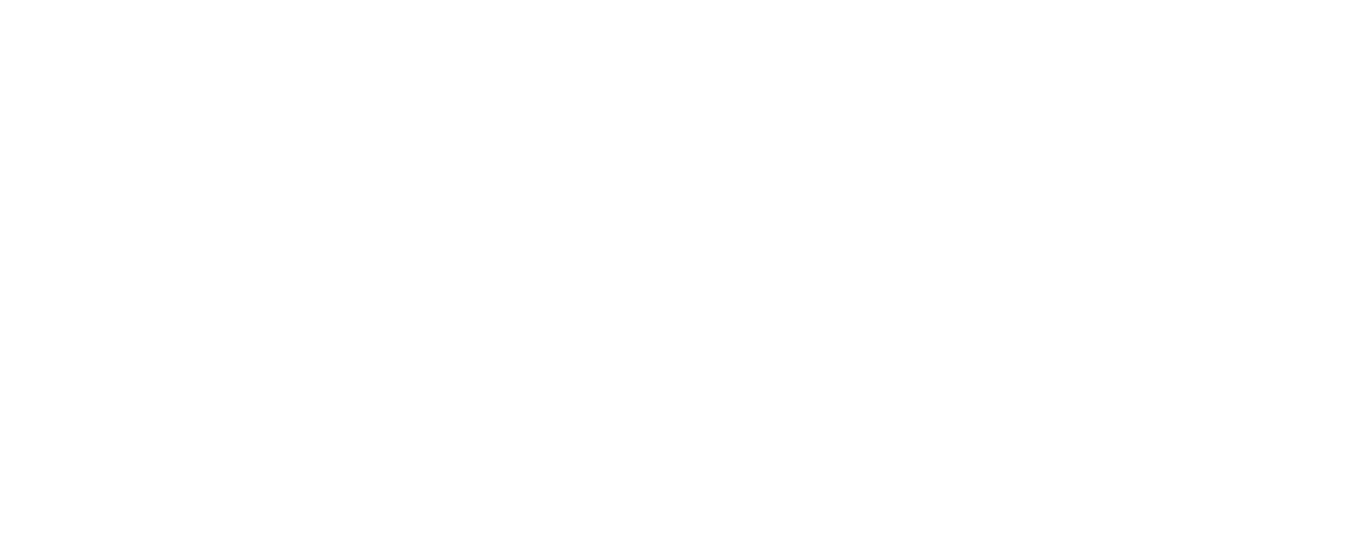
Оператор понимания имеет большое значение для всех методов, входящих в базовый технологический алфавит понимающей психотерапии. В предыдущей статье этой серии [4] были описаны функции оператора понимания, общие для всех психотехнических единиц. Несмотря на кажущуюся простоту, эта тема заслуживает отдельного серьезного анализа. К. Роджерс, например, в короткой получасовой консультации с Глорией использовал 19(!) различных операторов понимания. Его опыт показывает, насколько это важный и тонкий элемент психотерапевтического искусства [16].
Персона — структурный элемент, который также присущ всем психотехническим единицам [4], [7]. Это главный герой сцены, изображенной в терапевтической реплике, с которым клиент может себя отождествить или соотнести. Персона в кларификации — субъект действия в отличие от эмпатии, где персона является носителем непосредственного переживания, и от майевтики, где персона — носитель убеждения.
Возможны многие варианты персоны как элемента терапевтической реплики: местоимение, социальная роль, орган, функция, качество, риторическая фигура и пр. [7].
Действие. Некоторые кларификационные реплики терапевта делают смысловое ударение на действии персоны, их мы будем называть деятельностно-ориентированными (д-кларификация) в отличие от предметно-ориентированных (п-кларификация), в фокусе которых — описание предметов и обстоятельств жизненного мира пациента1.
___________________
1Техника психотерапевтической работы со структурной категорией «Другой» составляет важнейшую самостоятельную тему, которая выходит за пределы настоящей статьи.
___________________
Эмпатия стремится повернуть сознание пациента внутрь, на непосредственное переживание, кларификация же, напротив, направлена вовне, на объективность. Точнее, она реализует установку на «объективацию»: даже эмоциональные переживания пациента могут быть даны в кларификационной реплике терапевта как особые «объекты».
Пример из консультации К. Роджерса с Джен [14]:
(1) С2: У меня две проблемы. Первая — это страх перед браком и рождением детей. Вторая — это старение. Мне трудно заглядывать в будущее, оно пугает меня.
___________________
2Для возможности ссылок каждая реплика кодируется следующим образом: число в скобках — порядковый номер реплики в данной статье, далее её автор — С (клиент) или Т (психотерапевт), буква после косой черты — тип терапевтической реплики: М — майевтика, Э — эмпатия, К — кларификация, И — интерпретация. Это может быть и терапевтический аккорд, например, Т/Э+К — сочетание эмпатии и кларификации.
___________________
Одна из возможных эмпатических реплик могла бы звучать так:
(2) Т/Э: Правильно ли я понимаю, что вас ужасает неумолимость времени и вы чувствуете тревогу, когда думаете о замужестве и детях?
Такой ответ приглашал бы клиента сосредоточиться на своих чувствах «ужаса» и «тревоги». Фактический ответ К. Роджерса — кларификация, сочетающая в себе обе формы — деятельностно- и предметно-ориентированную:
(3) Т/К: Получается, что у вас две главные проблемы. Я не знаю, какую же из них вы выберете первой.
Эта реплика не погружает сознание клиента ни в чувства по поводу проблем, ни даже в само содержание проблемы, а удерживает его «над» проблемой в позиции субъекта, совершающего выбор: какую из двух тем предпочесть для начала консультативной беседы. Первая часть реплики — п-кларификация очерчивает предмет («две главные проблемы»), а вторая — д-кларификация фасилитирует действие (акт выбора).
В деятельностно-ориентированной кларификации следует выделить несколько аспектов, которые могут модифицироваться и выдвигаться на первый план при построении конкретной реплики. Это, прежде всего, модус действия и сам акт. В изображении последнего может участвовать описание вида и жанра действия, установки, модальности, цели, операций, средств и пр. Важные параметры описания — регистр сознания, в котором мыслится данное действие, и уровень конкретности действия.
Терапевт может усмотреть в жизненном мире клиента множество потенциальных действий, и выбор из них наиболее актуального и значимого для развития переживания клиента является функцией феноменологической интуиции терапевта. Например, в реплике клиента (4) терапевт может усмотреть и поддержать как установку на познавательную деятельность, так и установку на деятельность преодоления.
(4) С: Мой отец никогда по-настоящему не любил меня, и теперь я не умею никого любить и просто не знаю, что мне делать.
Примером выбора познавательной деятельности может служить кларификация (5):
(5) Т/К: То есть сейчас вы пытаетесь понять3 причины этого неумения любить?
___________________
3Полужирным шрифтом будут выделяться ключевые слова, иллюстрирующие описываемый в тексте аспект психотерапевтической техники.
___________________
Пример выбора деятельности преодоления — следующая реплика:
(6) Т/К: Правильно ли я понимаю, что, несмотря ни на что, вы не хотите это так и оставить, с этим нужно что-то делать, и весь вопрос в том, что именно?
Каждая из этих установок может быть выражена не единственным способом. Выбор самого вида деятельности для д-кларификации — наиболее важная переменная, однако и нюансировка действия психотехнически значимая вещь. Скажем, познавательная деятельность может быть представлена в ответе терапевта разными действиями. Если терапевт во фразе (5) вместо «понять» скажет «проанализировать», «прояснить» или «объяснить», он подчеркнёт разные нюансы той же познавательной деятельности. Он может пойти и по пути изменения модальности действия.
В данном случае под модальностью мы имеем в виду тот аспект описания действия, который предполагает апелляцию к разным психическим функциям. В реплике (5) вместо интеллектуального ряда «понять», «проанализировать» и т.п. могло появиться описание действия в какой-нибудь перцептивной модальности — «вглядеться», «нащупать» и т.д.
Например:
(7) Т/К: То есть сейчас вы пытаетесь вглядеться в истоки (нащупать корни) этого неумения любить?
В этих случаях всякий раз совсем другая психическая функция приглашается к участию в работе переживания: что невозможно «понять», можно иногда «увидеть», «расслышать» или «нащупать». Это измерение описания опыта подчёркивается в понятии «репрезентативных систем», которое введено в нейролингвистическом программировании [2].
Переформулируя модальности действия, терапевт не столько получает «доступ» к разным структурам опыта пациента, сколько фасилитирует более свободное и творческое использование им своих душевных сил, способствуя развитию культуры его переживания.
Модус действия в кларификации также служит целям тонкой настройки изображаемого действия. Он описывает качество действия, отношение персоны к действию, реальность/ирреальность действия и его интенсивность.
В реплике (5) модус выражен глаголом «пытаетесь». Если бы терапевт сказал: «стремитесь», «хотели бы», «надеетесь», «нужно» и т.д., то в каждом из этих модусов он бы выразил разные отношения клиента к основному действию и разные степени реальности этого действия: одно дело желательность, другое необходимость, третье надежда.
Кроме качественных вариаций модуса в кларификации используются и количественные.
(8) Т/К: То есть сейчас вы во что бы то ни стало хотели бы понять первопричины этого неумения любить?
В этой фразе использованы две модификации исходной реплики (5): качественная («хотели бы» вместо «пытаетесь») и количественная — резкое усиление за счёт выражения «во что бы то ни стало».
В ответ на ту же фразу (4) терапевт мог бы откликнуться такой стимулирующей кларификацией:
(9) Т/К: У этого неумения любить есть, насколько я понял, давние и почти непреодолимые причины, но, тем не менее, вы здесь потому, что набрались решимости попытаться что-то изменить в себе?
Вот отформатированный текст с устранением лишних переносов и улучшенной структурой:
Предметом терапевтического отклика становится не столько сама жалоба клиента, сколько его волевой почин (решимость обратиться к психотерапевту) и мотивация преодоления («попытаться что-то изменить в себе»). Функция такой реплики — поддержка и укрепление мотивационно-волевого настроя клиента на изменения.
Следующий вариант терапевтического ответа (10) направлен не на стимуляцию самостоятельной деятельности клиента, а на активацию его установки на сотрудничество с терапевтом. Терапевт интонационно как бы подхватывает слова клиента, не даёт им замереть в точке безысходности:
(10) Т/К: ...И вот вы пришли для того, чтобы попытаться понять, можем ли мы с вами с этим «неумением любить» что-то сделать?
Терапевт не просто по своему почину (и, соответственно, под свою ответственность) предлагает альянс, например: «Мы с вами попытаемся вместе разобраться и что-то сделать». Такая реплика вовсе не была бы ни кларификационной, ни вообще понимающей; по своему жанру она представляет собой предложение услуги. В отличие от неё фраза (10) культивирует кооперативную инициативу самого клиента.
Можно было бы возразить: клиент ведь ничего не говорил о решимости меняться и желании сотрудничать. Не следует ли из этого, что такого рода отклики, как (9) и (10), являются вовсе не кларификацией, не высветлением потенциального волевого и коммуникативного намерения клиента, а интерпретацией, которая истолковывает сам акт его прихода на сеанс в выгодном для психотерапевтического процесса ключе (а именно как готовность к конструктивному взаимодействию)?
Ответ на такой вопрос может быть дан лишь в целостном контексте конкретного консультативного процесса, а не в абстрактно-обобщённой форме. В психотерапии не только «не дано предугадать, как слово наше отзовётся», но не дано даже знать, что, собственно, мы сказали до тех пор, пока не прозвучит отклик клиента как партнёра по диалогу. Поэтому главный критерий, специфицирующий тип терапевтического ответа, — это не «критерий структуры», т.е. соответствие фразы формальным структурным признакам эмпатической, кларификационной и любой другой реплики, а «критерий отклика».
Только когда слово терапевта «отзовётся» в слове клиента, можно будет узнать, какая в действительности психотехническая единица реализовалась. Приведённые выше кларификационные фразы (9) и (10) могли оказаться интерпретативными, что, скорее всего, тут же обнаружилось бы, например, в феномене сопротивления пациента. Но они же могут активировать и «уровень сознавания» в целостной работе его переживания, и тем самым подтвердится, что они оказались кларификационными.
Негарантированность совпадения структурного и функционального критериев является замечательным эмпирическим «доказательством» несводимости терапевтического диалога к технологии, подтверждением творческой свободы и непредсказуемости как процесса переживания клиента, так и консультативного процесса в целом.
Персона — структурный элемент, который также присущ всем психотехническим единицам [4], [7]. Это главный герой сцены, изображенной в терапевтической реплике, с которым клиент может себя отождествить или соотнести. Персона в кларификации — субъект действия в отличие от эмпатии, где персона является носителем непосредственного переживания, и от майевтики, где персона — носитель убеждения.
Возможны многие варианты персоны как элемента терапевтической реплики: местоимение, социальная роль, орган, функция, качество, риторическая фигура и пр. [7].
Действие. Некоторые кларификационные реплики терапевта делают смысловое ударение на действии персоны, их мы будем называть деятельностно-ориентированными (д-кларификация) в отличие от предметно-ориентированных (п-кларификация), в фокусе которых — описание предметов и обстоятельств жизненного мира пациента1.
___________________
1Техника психотерапевтической работы со структурной категорией «Другой» составляет важнейшую самостоятельную тему, которая выходит за пределы настоящей статьи.
___________________
Эмпатия стремится повернуть сознание пациента внутрь, на непосредственное переживание, кларификация же, напротив, направлена вовне, на объективность. Точнее, она реализует установку на «объективацию»: даже эмоциональные переживания пациента могут быть даны в кларификационной реплике терапевта как особые «объекты».
Пример из консультации К. Роджерса с Джен [14]:
(1) С2: У меня две проблемы. Первая — это страх перед браком и рождением детей. Вторая — это старение. Мне трудно заглядывать в будущее, оно пугает меня.
___________________
2Для возможности ссылок каждая реплика кодируется следующим образом: число в скобках — порядковый номер реплики в данной статье, далее её автор — С (клиент) или Т (психотерапевт), буква после косой черты — тип терапевтической реплики: М — майевтика, Э — эмпатия, К — кларификация, И — интерпретация. Это может быть и терапевтический аккорд, например, Т/Э+К — сочетание эмпатии и кларификации.
___________________
Одна из возможных эмпатических реплик могла бы звучать так:
(2) Т/Э: Правильно ли я понимаю, что вас ужасает неумолимость времени и вы чувствуете тревогу, когда думаете о замужестве и детях?
Такой ответ приглашал бы клиента сосредоточиться на своих чувствах «ужаса» и «тревоги». Фактический ответ К. Роджерса — кларификация, сочетающая в себе обе формы — деятельностно- и предметно-ориентированную:
(3) Т/К: Получается, что у вас две главные проблемы. Я не знаю, какую же из них вы выберете первой.
Эта реплика не погружает сознание клиента ни в чувства по поводу проблем, ни даже в само содержание проблемы, а удерживает его «над» проблемой в позиции субъекта, совершающего выбор: какую из двух тем предпочесть для начала консультативной беседы. Первая часть реплики — п-кларификация очерчивает предмет («две главные проблемы»), а вторая — д-кларификация фасилитирует действие (акт выбора).
В деятельностно-ориентированной кларификации следует выделить несколько аспектов, которые могут модифицироваться и выдвигаться на первый план при построении конкретной реплики. Это, прежде всего, модус действия и сам акт. В изображении последнего может участвовать описание вида и жанра действия, установки, модальности, цели, операций, средств и пр. Важные параметры описания — регистр сознания, в котором мыслится данное действие, и уровень конкретности действия.
Терапевт может усмотреть в жизненном мире клиента множество потенциальных действий, и выбор из них наиболее актуального и значимого для развития переживания клиента является функцией феноменологической интуиции терапевта. Например, в реплике клиента (4) терапевт может усмотреть и поддержать как установку на познавательную деятельность, так и установку на деятельность преодоления.
(4) С: Мой отец никогда по-настоящему не любил меня, и теперь я не умею никого любить и просто не знаю, что мне делать.
Примером выбора познавательной деятельности может служить кларификация (5):
(5) Т/К: То есть сейчас вы пытаетесь понять3 причины этого неумения любить?
___________________
3Полужирным шрифтом будут выделяться ключевые слова, иллюстрирующие описываемый в тексте аспект психотерапевтической техники.
___________________
Пример выбора деятельности преодоления — следующая реплика:
(6) Т/К: Правильно ли я понимаю, что, несмотря ни на что, вы не хотите это так и оставить, с этим нужно что-то делать, и весь вопрос в том, что именно?
Каждая из этих установок может быть выражена не единственным способом. Выбор самого вида деятельности для д-кларификации — наиболее важная переменная, однако и нюансировка действия психотехнически значимая вещь. Скажем, познавательная деятельность может быть представлена в ответе терапевта разными действиями. Если терапевт во фразе (5) вместо «понять» скажет «проанализировать», «прояснить» или «объяснить», он подчеркнёт разные нюансы той же познавательной деятельности. Он может пойти и по пути изменения модальности действия.
В данном случае под модальностью мы имеем в виду тот аспект описания действия, который предполагает апелляцию к разным психическим функциям. В реплике (5) вместо интеллектуального ряда «понять», «проанализировать» и т.п. могло появиться описание действия в какой-нибудь перцептивной модальности — «вглядеться», «нащупать» и т.д.
Например:
(7) Т/К: То есть сейчас вы пытаетесь вглядеться в истоки (нащупать корни) этого неумения любить?
В этих случаях всякий раз совсем другая психическая функция приглашается к участию в работе переживания: что невозможно «понять», можно иногда «увидеть», «расслышать» или «нащупать». Это измерение описания опыта подчёркивается в понятии «репрезентативных систем», которое введено в нейролингвистическом программировании [2].
Переформулируя модальности действия, терапевт не столько получает «доступ» к разным структурам опыта пациента, сколько фасилитирует более свободное и творческое использование им своих душевных сил, способствуя развитию культуры его переживания.
Модус действия в кларификации также служит целям тонкой настройки изображаемого действия. Он описывает качество действия, отношение персоны к действию, реальность/ирреальность действия и его интенсивность.
В реплике (5) модус выражен глаголом «пытаетесь». Если бы терапевт сказал: «стремитесь», «хотели бы», «надеетесь», «нужно» и т.д., то в каждом из этих модусов он бы выразил разные отношения клиента к основному действию и разные степени реальности этого действия: одно дело желательность, другое необходимость, третье надежда.
Кроме качественных вариаций модуса в кларификации используются и количественные.
(8) Т/К: То есть сейчас вы во что бы то ни стало хотели бы понять первопричины этого неумения любить?
В этой фразе использованы две модификации исходной реплики (5): качественная («хотели бы» вместо «пытаетесь») и количественная — резкое усиление за счёт выражения «во что бы то ни стало».
В ответ на ту же фразу (4) терапевт мог бы откликнуться такой стимулирующей кларификацией:
(9) Т/К: У этого неумения любить есть, насколько я понял, давние и почти непреодолимые причины, но, тем не менее, вы здесь потому, что набрались решимости попытаться что-то изменить в себе?
Вот отформатированный текст с устранением лишних переносов и улучшенной структурой:
Предметом терапевтического отклика становится не столько сама жалоба клиента, сколько его волевой почин (решимость обратиться к психотерапевту) и мотивация преодоления («попытаться что-то изменить в себе»). Функция такой реплики — поддержка и укрепление мотивационно-волевого настроя клиента на изменения.
Следующий вариант терапевтического ответа (10) направлен не на стимуляцию самостоятельной деятельности клиента, а на активацию его установки на сотрудничество с терапевтом. Терапевт интонационно как бы подхватывает слова клиента, не даёт им замереть в точке безысходности:
(10) Т/К: ...И вот вы пришли для того, чтобы попытаться понять, можем ли мы с вами с этим «неумением любить» что-то сделать?
Терапевт не просто по своему почину (и, соответственно, под свою ответственность) предлагает альянс, например: «Мы с вами попытаемся вместе разобраться и что-то сделать». Такая реплика вовсе не была бы ни кларификационной, ни вообще понимающей; по своему жанру она представляет собой предложение услуги. В отличие от неё фраза (10) культивирует кооперативную инициативу самого клиента.
Можно было бы возразить: клиент ведь ничего не говорил о решимости меняться и желании сотрудничать. Не следует ли из этого, что такого рода отклики, как (9) и (10), являются вовсе не кларификацией, не высветлением потенциального волевого и коммуникативного намерения клиента, а интерпретацией, которая истолковывает сам акт его прихода на сеанс в выгодном для психотерапевтического процесса ключе (а именно как готовность к конструктивному взаимодействию)?
Ответ на такой вопрос может быть дан лишь в целостном контексте конкретного консультативного процесса, а не в абстрактно-обобщённой форме. В психотерапии не только «не дано предугадать, как слово наше отзовётся», но не дано даже знать, что, собственно, мы сказали до тех пор, пока не прозвучит отклик клиента как партнёра по диалогу. Поэтому главный критерий, специфицирующий тип терапевтического ответа, — это не «критерий структуры», т.е. соответствие фразы формальным структурным признакам эмпатической, кларификационной и любой другой реплики, а «критерий отклика».
Только когда слово терапевта «отзовётся» в слове клиента, можно будет узнать, какая в действительности психотехническая единица реализовалась. Приведённые выше кларификационные фразы (9) и (10) могли оказаться интерпретативными, что, скорее всего, тут же обнаружилось бы, например, в феномене сопротивления пациента. Но они же могут активировать и «уровень сознавания» в целостной работе его переживания, и тем самым подтвердится, что они оказались кларификационными.
Негарантированность совпадения структурного и функционального критериев является замечательным эмпирическим «доказательством» несводимости терапевтического диалога к технологии, подтверждением творческой свободы и непредсказуемости как процесса переживания клиента, так и консультативного процесса в целом.
Влияние на мотивацию клиента может осуществляться не только прямыми обращениями к этому аспекту его деятельности, но и, например, бескомпромиссным указанием на неразрешимость ситуации, непреодолимость препятствий и т.п.
(11) С: Верно. Я чувствую безнадежность. Я сама всё прекрасно понимаю, ну и что с того?
(12) Т/К: То есть вам кажется, что в этом и есть конфликт. И что он неразрешим. От безнадежности вы обращаетесь ко мне, и, с вашей точки зрения, я тоже вам не помогаю [16].
Строго говоря, реплика (12) является не д-, а п-кларификацией, которая, тем не менее, приводится в этом разделе в силу её направленности на мотивацию клиента. К. Роджерс мужественно избегает искушения утешить клиента, он подводит его к самому краю безнадежности. Разумеется, это терапевтический риск. Но оправдан он (как показывает дальнейший ход данной консультации) потому, что терапевт не оставляет клиента в одиночестве у этого края, личностно присутствует с ним в ситуации, в которой тот раньше всегда оказывался один на один со своей беспомощностью. И именно этот акт сопереживания, сопребывания в точке безысходности несёт в себе потенциал вызова, стимуляции и поддержки нового витка активной работы переживания клиента.
Деятельностно-ориентированная кларификация может фокусироваться на таких структурных элементах деятельности, как цель, средства и помехи. На реплику клиента (4) терапевт мог бы откликнуться так:
(13) Т/К: Правильно ли я понимаю, что вы ставите перед собой цель — развить в себе способность любви, но детский опыт мешает вам?
Структура этого терапевтического отклика включает в себя противопоставление цели (развить способность) и помехи (детский опыт). Такая структурная позиция обсуждаемого «детского опыта» радикально отличается от его позиции как причины нелюбви. С причиной приходится смиряться, помеха подлежит преодолению.
Вот вариант ответа, в котором фигурируют также средства деятельности:
(14) Т/К: Можно ли так понять, что вы перепробовали уже разные средства и способы, чтобы научиться любить, но все они не помогают преодолеть тяжёлый опыт нелюбимого ребёнка?
Не важно, что данная реплика квалифицирует «средства и способы» как недостаточные для преодоления тяжёлого детского опыта, важно, что эта тема вообще вводится в контекст терапевтической беседы, и клиент тем самым призывается к рефлексии своей работы по совладанию с ситуацией в терминах использованных им «средств и способов».
Модус и модальность действия, мотивация, цель, средства и помехи — всё это специфические параметры д-кларификации. Рассмотрим ещё два неспецифических параметра — «регистры сознания» и «уровень абстрактности — конкретности».
«Регистр» — ключевое понятие стратиграфического анализа сознания [5]. Даже в относительно простых фразах клиента обычно присутствует несколько регистров сознания, и для терапевтических целей важно, какие из них будут избраны для отображения терапевтом. Остановимся на техническом использовании самого простого различения двух регистров сознания — «здесь-и-теперь» и «там-и-тогда».
Студентам, обучающимся в мастерской по понимающей психотерапии, было предложено построить д-кларификацию на следующую фразу клиента:
(15) С: Я поругалась с родителями, и мне сейчас очень плохо. Хочется им позвонить и помириться, но я себя останавливаю, не хочу делать это первой.
Вот один из ответов:
(16) Т/К: То есть вы удерживаете себя?
Этот ответ фокусируется на действиях персоны в регистре «там-и-тогда». Отнесённость к этому регистру можно было бы подчеркнуть ярче:
(17) Т/К: Бывают минуты, когда рука уже просто тянется к телефону, но вы удерживаете себя, говорите себе: «Стоп! Надо подождать!»
Акцентирование регистра «здесь-и-теперь» иллюстрирует следующая реплика:
(18) Т/К: Правильно ли я понимаю, что теперь вы пытаетесь разобраться со своими чувствами и желаниями, чтобы решить, как вам действовать...
Клиент позиционируется как субъект, который «теперь» проявляет активность по отношению к прошлому и будущему опыту.
На практике часто применяются комбинированные формы, в которых два (или более) регистра сознания сопрягаются между собой:
(19) Т/К: То есть вы в данный момент анализируете ситуацию и пытаетесь сделать выбор: позвонить ли самой родителям или ждать, пока они первыми пойдут на примирение?
Терапевт фокусируется на действиях анализа и выбора, осуществляемых «здесь-и-теперь», однако сам этот выбор совершается между двумя возможными действиями в регистре «там-и-тогда» — «позвонить самой» или «ждать».
Действия в кларификационной реплике могут быть представлены как в конкретной, так и в обобщённо-абстрактной форме. В последнем случае фраза (19) могла бы прозвучать иначе:
(20) Т/К: Так ли я понял, что вы выбираете между двумя стратегиями поведения: активно действовать по своей инициативе или пассивно ожидать чужой?4
___________________
4Нетрудно заметить, что такая интервенция при формальной нейтральности несёт в себе ценностный и отчасти директивный импульс, «подталкивая» горделиво-обидчивого клиента в сторону «мирных инициатив». Как показывают исследования (например, [18]), прояснение ценностей клиента, попытка достижения согласованности между его ценностями и поведением — важные цели консультирования.
___________________
Однако возможен и сдвиг кларификации, наоборот, в сторону большей конкретности изображения действия. Вот конкретизирующая редакция реплики (19):
(21) Т/К: Так ли я понимаю, что вы пытаетесь сделать выбор: ходить вокруг телефона в ожидании звонка или вздохнуть, решиться набрать знакомый номер и, услышав голос мамы, найти слова примирения?
Терапевтический смысл управления уровнем обобщения кларификационных реплик состоит прежде всего в том, что обобщённые, абстрактные формулировки апеллируют в большей степени к ценностно-мировоззренческим принципам клиента и, соответственно, к ценностному уровню разворачивающегося процесса переживания, а частные и конкретные — к чувственной пластике его намерений.
Образ ситуации. Важнейшим структурным элементом кларификации является описание предметов и обстоятельств, входящих в жизненную ситуацию пациента. Работа переживания разворачивается не только в пространстве жизненного мира человека, но и в материале этого мира. Весь предметный состав жизненного мира вовлекается в процесс переживания, существенно определяет его и, в свою очередь, определяется и трансформируется ходом этого процесса.
Кларификация множеством способов участвует в трансформациях образа жизненной ситуации клиента. Это множество можно условно разделить на «когнитивно-логические», «пластические» и «поэтические» преобразования.
КОГНИТИВНО-ЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Совершая деятельность переживания в ходе терапевтического сеанса, пациент даёт описание различных элементов жизненной ситуации. Когнитивно-логические преобразования этого материала могут быть двух видов — работа с элементами, связями, структурами и работа с логическими уровнями.
Соучаствуя в первом из этих аспектов работы переживания пациента, терапевт может: добавлять к данной картине новые элементы, устранять или игнорировать какие-то из предложенных элементов; фокусироваться на определённых элементах, не обязательно тех, которые подчёркивает сам пациент; конструировать целостные гештальты из предложенных элементов или, напротив, деконструировать структуры, которые сложились в сознании пациента, и пр.
Приведём лишь одну иллюстрацию. Кларификационный ответ на фразу клиента (1) мог бы попытаться активировать установку на обнаружение связи между двумя заявленными проблемами:
(22) Т/К: Они всплывают у вас почему-то вместе, хотя вы пока не можете понять, есть ли между ними какая-то связь?
Реплика (22) не устанавливает интерпретативно связь между браком и старением, не требует директивно ответить на вопрос о связи между ними, а фиксирует реальность совместного появления двух проблем и реальность же неустановленной связи между ними, тем самым «подстрекая» переживание клиента на их увязывание между собой.
Вторая группа когнитивно-логических преобразований относится к работе с логическими уровнями «абстрактное — конкретное» и «общее — частное». Одно и то же жизненное событие, которое в ходе терапии описывает клиент, может быть «возвращено» ему в кларификации терапевта на уровне более абстрактном или более конкретном, обобщённо или как частность. Эти сдвиги логических уровней описания значимо меняют ход процесса переживания5.
___________________
5 Историческим примером использования обобщённо-абстрактных риторических форм в терапевтических целях может служить античная традиция философского утешения, которой, как пишет С.С. Аверинцев, вполне органична «мысль, что скорбь родителя о смерти сына или дочери можно врачевать, указывая на общую бренность всех дел человеческих, на участь терпящих упадок городов и народов (как некогда Сервий Сульпиций утешал Цицерона)» [1; 6–7].
___________________
В начале консультации Глория говорит К. Роджерсу, что после развода в её жизни появились мужчины, и её волнуют возникающие в связи с этим эмоциональные проблемы у дочери. Не желая травмировать дочь, она опасается говорить ей правду о мужчинах, а скрывая и обманывая, боится потерять её доверие.
(23) Т/К: ...Вы чувствуете, что те открытые отношения между вами, они как бы исчезли?
Сама клиентка не мыслила в терминах «отношений», она описывала конкретные эпизоды и чувства. К. Роджерс же перевёл беседу на более высокий логический уровень, обобщив все детали одной общей темой — «отношения».
Терапевтический смысл этого перехода «от деревьев к лесу» связан в данном случае с необходимостью в дебюте консультативного процесса добиться ясности и взаимности в понимании «проблемы» как центральной темы терапевтического диалога.
Другой фрагмент из той же консультации [16]:
(24) С: ...Что-то во мне говорит, что это ненормально — ложиться в постель с мужчиной только из-за влечения и физической потребности.
(25) Т/К: Порой вы чувствуете, что ваши действия не соответствуют вашим внутренним стандартам.
Если в предыдущем примере кларификации (23) терапевт перешёл от совокупности частностей к их обобщению, то теперь он осуществляет движение от конкретного к абстрактному. В ответе терапевта речь идёт об отношении всё к тому же самому конкретному действию («ложиться в постель с мужчиной»), но представлено оно максимально отвлечённо: несоответствие неких абстрактных «действий» неким абстрактным «внутренним стандартам».
Вот пример противоположного движения кларификации — в сторону более частного и конкретного. Студентам была предложена фраза клиента:
(26) С: Я постоянно опаздываю на работу. Каждый раз после очередного выговора я собираюсь отучиться от этой привычки, но постепенно всё забывается... до следующего выговора. И так всё бесконечно повторяется.
Одна из студенток предложила следующий вариант кларификации:
(27) Т/К: То есть вы пытаетесь понять, почему каждый раз, когда вы собираетесь на работу, вам всё время что-то мешает и отвлекает, ну не знаю, что-то в этом роде — то завтрак сгорел на плите и надо готовить новый, то машина обливает с ног до головы и надо переодеться, то авария на дороге и появляются невозможные пробки...
Это вовсе не пример фантазирования терапевта. Поскольку он не претендует на телепатическую проницательность («ну я не знаю, что-то в этом роде»), то такая фраза воспринимается клиентом не как попытка подменить его ситуацию домыслами терапевта, а как приглашение перейти на более конкретный уровень обсуждения проблемы.
Итак, управление логическими уровнями разворачивания процесса переживания — вот главная задача этого аспекта техники кларификации.
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В смысловую работу переживания вовлечены не только эмоции и идеи, но и чувственные представления и ощущения. Поэтому терапевтическая фасилитация переживания должна включать в себя средства работы и с этой чувственной материей, пластикой психических образов. Дж. Бьюдженталь [3] придавал большое значение этому аспекту «искусства психотерапевта». Трансформация перцептивной картины предметной реальности жизненного мира пациента — важнейшая задача кларификации.
Можно указать на несколько видов пластических трансформаций: преобразование перцептивной модальности; изменение отношений «фигура — фон»; смена ракурса рассмотрения; перемена планов изображения; композиционные изменения; работа с цветовым составом и освещением и др.
В учебной консультации клиентка жалуется на страх глубины:
(28) С: ...То есть я умею плавать, знаю, как это нужно делать. Но когда чувствую, что под ногами нет дна, я тут же начинаю забывать, как двигать руками и ногами, как дышать, у меня начинается паника... То есть вдоль берега я плавать умею, а вот дальше (смешок), чуть-чуть дальше... В бассейне хорошо себя чувствую, а вот когда находишься на море, хотелось бы подальше отплыть, прочувствовать это удовольствие. А я беру надувной круг (смех), как маленький ребёнок с этим кругом. А когда заплываю подальше, тут же мысль: вон где-то дырочка возникнет, и я начинаю считать, успею ли доплыть до берега, пока он сдуется...
Модальность. Клиент эксплуатирует преимущественно тактильную («...под ногами нет дна») и кинестетическую («как двигать руками и ногами, как дышать») модальности, терапевт же в следующем ответе даёт исключительно оптическое описание:
(29) Т/К: И из-за этого на море вашу шапочку не найти среди тех редких точек за линией буйков, скорее, её надо высматривать среди фигурок, рассыпанных в прибрежной полосе?
Раз тревога запускается именно из тактильной и кинестетической модальности, есть вероятность, что конвертация той же предметной реальности в другую модальность не позволит разыграться панике.
Ракурс. Пациентка строит своё изложение от лица героини, лишь изредка соскальзывая на позицию стороннего наблюдателя, который насмешливо смотрит на взрослую женщину, плавающую, как ребёнок, вдоль берега с надувным кругом. Моменты этого сдвига позиций отмечены застенчивым смешком пациентки. В кларификации (29) картина дана в «верхнем ракурсе». «Точка съёмки» установлена достаточно высоко (например, на скале), так что шапочки далеко заплывших купальщиков видны как точки, а среди маленьких фигурок в прибрежной полосе героиню приходится высматривать (такая лексика задаёт расстояние от «камеры» до объектов примерно в 100 м).
Терапевт мог сдвинуть ракурс рассмотрения, почти совместив его с позицией того, промелькнувшего в речи клиента насмешливого персонажа. «Точка съёмки» установлена теперь на пляже, в нескольких метрах от кромки воды, примерно на высоте человеческого роста.
(30) Т/К: И из-за этого вы со своим кругом оказываетесь среди детей, барахтающихся в набегающей волне, вместо того, чтобы плыть там далеко, в спокойной синеве.
Масштаб. Изображение может быть дано в общем плане, среднем и крупном. Сама пациентка склонна к крупным планам: похоже, что в её воображении такая мельчайшая деталь, как дырочка на надувном круге, в минуту паники занимает чуть ли не половину «экрана»6.
______________________
6 Возможно, эта перцептивная стратегия является одним из механизмов «производства» страха — не потому ли «у страха глаза велики».
______________________
Кларификационная реплика (29) использует общий план — в ней предлагается обзор широкой панорамы от «прибрежной полосы» до пространства за буйками. Реплика (30) применяет сначала средний план, в котором пациентка попадает в инфантильную когорту «барахтающихся в набегающей волне», а затем благодаря операторскому приёму «переброски» [10] даётся общий план («спокойная синева»), который в данном случае символизирует мечту пациентки, в частности, за счёт цветового решения кадра (ведь терапевт мог сказать просто «плыть далеко-далеко»).
Масштаб и план изображения связаны с ракурсом, но неоднозначно. И крупный, и общий планы могут быть даны как из внешней позиции, так и из позиции самого пациента. Тогда в кларификации может появиться описание: «подозрительный пузырёк воздуха на надувном круге, побелевшие пальцы, вцепившиеся в резину, круг, кажется, стал чуть мягче, да, вот пузырьки... Сдувается!».
Благодаря таким крупным планам, данным из внутреннего ракурса, терапевт порой помогает клиенту в лабораторных условиях воспроизвести паническую реакцию, с тем чтобы понять и взять под контроль психологический механизм её запуска.
Даже эти несколько примеров достаточно ясно показывают, насколько пластические вариации кларификации обогащают палитру терапевтической техники.
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
К поэтическим относятся трансформации нарративных, литературно-риторических структур опыта пациента. Деятельность переживания в своих высших, продуктивных формах является процессом творческим и диалогическим. Поэтому и вся деятельность сопереживания психотерапевта, в том числе техника кларификации, направлена не только на прояснение уже наличного опыта, она соучаствует в эстетическом и этическом преобразовании жизненного мира пациента.
В связи с этим психотерапевтическая практика требует не только научно-психологической, но и литературоведческой (шире — искусствоведческой) рефлексии. Разумеется, последняя может быть полноценной лишь на достаточно развернутом материале, например, материале анализа композиционной структуры терапевтической встречи или анализа жанровой специфики клинического случая.
Однако даже на уровне простейших единиц психотерапевтической техники, к которым относится кларификация, можно отметить использование не только широкого спектра изобразительно-стилистических, выразительных языковых средств — фигур речи и тропов (метонимии и метафоры, гиперболы и литоты, олицетворения и перифраза, сравнения и эпитета), но и литературных средств более высокого порядка, таких как работа с композицией и сюжетом. Жанровая и стилистическая рефлексия рассказа пациента — необходимый пласт ведения терапевтического диалога.
(11) С: Верно. Я чувствую безнадежность. Я сама всё прекрасно понимаю, ну и что с того?
(12) Т/К: То есть вам кажется, что в этом и есть конфликт. И что он неразрешим. От безнадежности вы обращаетесь ко мне, и, с вашей точки зрения, я тоже вам не помогаю [16].
Строго говоря, реплика (12) является не д-, а п-кларификацией, которая, тем не менее, приводится в этом разделе в силу её направленности на мотивацию клиента. К. Роджерс мужественно избегает искушения утешить клиента, он подводит его к самому краю безнадежности. Разумеется, это терапевтический риск. Но оправдан он (как показывает дальнейший ход данной консультации) потому, что терапевт не оставляет клиента в одиночестве у этого края, личностно присутствует с ним в ситуации, в которой тот раньше всегда оказывался один на один со своей беспомощностью. И именно этот акт сопереживания, сопребывания в точке безысходности несёт в себе потенциал вызова, стимуляции и поддержки нового витка активной работы переживания клиента.
Деятельностно-ориентированная кларификация может фокусироваться на таких структурных элементах деятельности, как цель, средства и помехи. На реплику клиента (4) терапевт мог бы откликнуться так:
(13) Т/К: Правильно ли я понимаю, что вы ставите перед собой цель — развить в себе способность любви, но детский опыт мешает вам?
Структура этого терапевтического отклика включает в себя противопоставление цели (развить способность) и помехи (детский опыт). Такая структурная позиция обсуждаемого «детского опыта» радикально отличается от его позиции как причины нелюбви. С причиной приходится смиряться, помеха подлежит преодолению.
Вот вариант ответа, в котором фигурируют также средства деятельности:
(14) Т/К: Можно ли так понять, что вы перепробовали уже разные средства и способы, чтобы научиться любить, но все они не помогают преодолеть тяжёлый опыт нелюбимого ребёнка?
Не важно, что данная реплика квалифицирует «средства и способы» как недостаточные для преодоления тяжёлого детского опыта, важно, что эта тема вообще вводится в контекст терапевтической беседы, и клиент тем самым призывается к рефлексии своей работы по совладанию с ситуацией в терминах использованных им «средств и способов».
Модус и модальность действия, мотивация, цель, средства и помехи — всё это специфические параметры д-кларификации. Рассмотрим ещё два неспецифических параметра — «регистры сознания» и «уровень абстрактности — конкретности».
«Регистр» — ключевое понятие стратиграфического анализа сознания [5]. Даже в относительно простых фразах клиента обычно присутствует несколько регистров сознания, и для терапевтических целей важно, какие из них будут избраны для отображения терапевтом. Остановимся на техническом использовании самого простого различения двух регистров сознания — «здесь-и-теперь» и «там-и-тогда».
Студентам, обучающимся в мастерской по понимающей психотерапии, было предложено построить д-кларификацию на следующую фразу клиента:
(15) С: Я поругалась с родителями, и мне сейчас очень плохо. Хочется им позвонить и помириться, но я себя останавливаю, не хочу делать это первой.
Вот один из ответов:
(16) Т/К: То есть вы удерживаете себя?
Этот ответ фокусируется на действиях персоны в регистре «там-и-тогда». Отнесённость к этому регистру можно было бы подчеркнуть ярче:
(17) Т/К: Бывают минуты, когда рука уже просто тянется к телефону, но вы удерживаете себя, говорите себе: «Стоп! Надо подождать!»
Акцентирование регистра «здесь-и-теперь» иллюстрирует следующая реплика:
(18) Т/К: Правильно ли я понимаю, что теперь вы пытаетесь разобраться со своими чувствами и желаниями, чтобы решить, как вам действовать...
Клиент позиционируется как субъект, который «теперь» проявляет активность по отношению к прошлому и будущему опыту.
На практике часто применяются комбинированные формы, в которых два (или более) регистра сознания сопрягаются между собой:
(19) Т/К: То есть вы в данный момент анализируете ситуацию и пытаетесь сделать выбор: позвонить ли самой родителям или ждать, пока они первыми пойдут на примирение?
Терапевт фокусируется на действиях анализа и выбора, осуществляемых «здесь-и-теперь», однако сам этот выбор совершается между двумя возможными действиями в регистре «там-и-тогда» — «позвонить самой» или «ждать».
Действия в кларификационной реплике могут быть представлены как в конкретной, так и в обобщённо-абстрактной форме. В последнем случае фраза (19) могла бы прозвучать иначе:
(20) Т/К: Так ли я понял, что вы выбираете между двумя стратегиями поведения: активно действовать по своей инициативе или пассивно ожидать чужой?4
___________________
4Нетрудно заметить, что такая интервенция при формальной нейтральности несёт в себе ценностный и отчасти директивный импульс, «подталкивая» горделиво-обидчивого клиента в сторону «мирных инициатив». Как показывают исследования (например, [18]), прояснение ценностей клиента, попытка достижения согласованности между его ценностями и поведением — важные цели консультирования.
___________________
Однако возможен и сдвиг кларификации, наоборот, в сторону большей конкретности изображения действия. Вот конкретизирующая редакция реплики (19):
(21) Т/К: Так ли я понимаю, что вы пытаетесь сделать выбор: ходить вокруг телефона в ожидании звонка или вздохнуть, решиться набрать знакомый номер и, услышав голос мамы, найти слова примирения?
Терапевтический смысл управления уровнем обобщения кларификационных реплик состоит прежде всего в том, что обобщённые, абстрактные формулировки апеллируют в большей степени к ценностно-мировоззренческим принципам клиента и, соответственно, к ценностному уровню разворачивающегося процесса переживания, а частные и конкретные — к чувственной пластике его намерений.
Образ ситуации. Важнейшим структурным элементом кларификации является описание предметов и обстоятельств, входящих в жизненную ситуацию пациента. Работа переживания разворачивается не только в пространстве жизненного мира человека, но и в материале этого мира. Весь предметный состав жизненного мира вовлекается в процесс переживания, существенно определяет его и, в свою очередь, определяется и трансформируется ходом этого процесса.
Кларификация множеством способов участвует в трансформациях образа жизненной ситуации клиента. Это множество можно условно разделить на «когнитивно-логические», «пластические» и «поэтические» преобразования.
КОГНИТИВНО-ЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Совершая деятельность переживания в ходе терапевтического сеанса, пациент даёт описание различных элементов жизненной ситуации. Когнитивно-логические преобразования этого материала могут быть двух видов — работа с элементами, связями, структурами и работа с логическими уровнями.
Соучаствуя в первом из этих аспектов работы переживания пациента, терапевт может: добавлять к данной картине новые элементы, устранять или игнорировать какие-то из предложенных элементов; фокусироваться на определённых элементах, не обязательно тех, которые подчёркивает сам пациент; конструировать целостные гештальты из предложенных элементов или, напротив, деконструировать структуры, которые сложились в сознании пациента, и пр.
Приведём лишь одну иллюстрацию. Кларификационный ответ на фразу клиента (1) мог бы попытаться активировать установку на обнаружение связи между двумя заявленными проблемами:
(22) Т/К: Они всплывают у вас почему-то вместе, хотя вы пока не можете понять, есть ли между ними какая-то связь?
Реплика (22) не устанавливает интерпретативно связь между браком и старением, не требует директивно ответить на вопрос о связи между ними, а фиксирует реальность совместного появления двух проблем и реальность же неустановленной связи между ними, тем самым «подстрекая» переживание клиента на их увязывание между собой.
Вторая группа когнитивно-логических преобразований относится к работе с логическими уровнями «абстрактное — конкретное» и «общее — частное». Одно и то же жизненное событие, которое в ходе терапии описывает клиент, может быть «возвращено» ему в кларификации терапевта на уровне более абстрактном или более конкретном, обобщённо или как частность. Эти сдвиги логических уровней описания значимо меняют ход процесса переживания5.
___________________
5 Историческим примером использования обобщённо-абстрактных риторических форм в терапевтических целях может служить античная традиция философского утешения, которой, как пишет С.С. Аверинцев, вполне органична «мысль, что скорбь родителя о смерти сына или дочери можно врачевать, указывая на общую бренность всех дел человеческих, на участь терпящих упадок городов и народов (как некогда Сервий Сульпиций утешал Цицерона)» [1; 6–7].
___________________
В начале консультации Глория говорит К. Роджерсу, что после развода в её жизни появились мужчины, и её волнуют возникающие в связи с этим эмоциональные проблемы у дочери. Не желая травмировать дочь, она опасается говорить ей правду о мужчинах, а скрывая и обманывая, боится потерять её доверие.
(23) Т/К: ...Вы чувствуете, что те открытые отношения между вами, они как бы исчезли?
Сама клиентка не мыслила в терминах «отношений», она описывала конкретные эпизоды и чувства. К. Роджерс же перевёл беседу на более высокий логический уровень, обобщив все детали одной общей темой — «отношения».
Терапевтический смысл этого перехода «от деревьев к лесу» связан в данном случае с необходимостью в дебюте консультативного процесса добиться ясности и взаимности в понимании «проблемы» как центральной темы терапевтического диалога.
Другой фрагмент из той же консультации [16]:
(24) С: ...Что-то во мне говорит, что это ненормально — ложиться в постель с мужчиной только из-за влечения и физической потребности.
(25) Т/К: Порой вы чувствуете, что ваши действия не соответствуют вашим внутренним стандартам.
Если в предыдущем примере кларификации (23) терапевт перешёл от совокупности частностей к их обобщению, то теперь он осуществляет движение от конкретного к абстрактному. В ответе терапевта речь идёт об отношении всё к тому же самому конкретному действию («ложиться в постель с мужчиной»), но представлено оно максимально отвлечённо: несоответствие неких абстрактных «действий» неким абстрактным «внутренним стандартам».
Вот пример противоположного движения кларификации — в сторону более частного и конкретного. Студентам была предложена фраза клиента:
(26) С: Я постоянно опаздываю на работу. Каждый раз после очередного выговора я собираюсь отучиться от этой привычки, но постепенно всё забывается... до следующего выговора. И так всё бесконечно повторяется.
Одна из студенток предложила следующий вариант кларификации:
(27) Т/К: То есть вы пытаетесь понять, почему каждый раз, когда вы собираетесь на работу, вам всё время что-то мешает и отвлекает, ну не знаю, что-то в этом роде — то завтрак сгорел на плите и надо готовить новый, то машина обливает с ног до головы и надо переодеться, то авария на дороге и появляются невозможные пробки...
Это вовсе не пример фантазирования терапевта. Поскольку он не претендует на телепатическую проницательность («ну я не знаю, что-то в этом роде»), то такая фраза воспринимается клиентом не как попытка подменить его ситуацию домыслами терапевта, а как приглашение перейти на более конкретный уровень обсуждения проблемы.
Итак, управление логическими уровнями разворачивания процесса переживания — вот главная задача этого аспекта техники кларификации.
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В смысловую работу переживания вовлечены не только эмоции и идеи, но и чувственные представления и ощущения. Поэтому терапевтическая фасилитация переживания должна включать в себя средства работы и с этой чувственной материей, пластикой психических образов. Дж. Бьюдженталь [3] придавал большое значение этому аспекту «искусства психотерапевта». Трансформация перцептивной картины предметной реальности жизненного мира пациента — важнейшая задача кларификации.
Можно указать на несколько видов пластических трансформаций: преобразование перцептивной модальности; изменение отношений «фигура — фон»; смена ракурса рассмотрения; перемена планов изображения; композиционные изменения; работа с цветовым составом и освещением и др.
В учебной консультации клиентка жалуется на страх глубины:
(28) С: ...То есть я умею плавать, знаю, как это нужно делать. Но когда чувствую, что под ногами нет дна, я тут же начинаю забывать, как двигать руками и ногами, как дышать, у меня начинается паника... То есть вдоль берега я плавать умею, а вот дальше (смешок), чуть-чуть дальше... В бассейне хорошо себя чувствую, а вот когда находишься на море, хотелось бы подальше отплыть, прочувствовать это удовольствие. А я беру надувной круг (смех), как маленький ребёнок с этим кругом. А когда заплываю подальше, тут же мысль: вон где-то дырочка возникнет, и я начинаю считать, успею ли доплыть до берега, пока он сдуется...
Модальность. Клиент эксплуатирует преимущественно тактильную («...под ногами нет дна») и кинестетическую («как двигать руками и ногами, как дышать») модальности, терапевт же в следующем ответе даёт исключительно оптическое описание:
(29) Т/К: И из-за этого на море вашу шапочку не найти среди тех редких точек за линией буйков, скорее, её надо высматривать среди фигурок, рассыпанных в прибрежной полосе?
Раз тревога запускается именно из тактильной и кинестетической модальности, есть вероятность, что конвертация той же предметной реальности в другую модальность не позволит разыграться панике.
Ракурс. Пациентка строит своё изложение от лица героини, лишь изредка соскальзывая на позицию стороннего наблюдателя, который насмешливо смотрит на взрослую женщину, плавающую, как ребёнок, вдоль берега с надувным кругом. Моменты этого сдвига позиций отмечены застенчивым смешком пациентки. В кларификации (29) картина дана в «верхнем ракурсе». «Точка съёмки» установлена достаточно высоко (например, на скале), так что шапочки далеко заплывших купальщиков видны как точки, а среди маленьких фигурок в прибрежной полосе героиню приходится высматривать (такая лексика задаёт расстояние от «камеры» до объектов примерно в 100 м).
Терапевт мог сдвинуть ракурс рассмотрения, почти совместив его с позицией того, промелькнувшего в речи клиента насмешливого персонажа. «Точка съёмки» установлена теперь на пляже, в нескольких метрах от кромки воды, примерно на высоте человеческого роста.
(30) Т/К: И из-за этого вы со своим кругом оказываетесь среди детей, барахтающихся в набегающей волне, вместо того, чтобы плыть там далеко, в спокойной синеве.
Масштаб. Изображение может быть дано в общем плане, среднем и крупном. Сама пациентка склонна к крупным планам: похоже, что в её воображении такая мельчайшая деталь, как дырочка на надувном круге, в минуту паники занимает чуть ли не половину «экрана»6.
______________________
6 Возможно, эта перцептивная стратегия является одним из механизмов «производства» страха — не потому ли «у страха глаза велики».
______________________
Кларификационная реплика (29) использует общий план — в ней предлагается обзор широкой панорамы от «прибрежной полосы» до пространства за буйками. Реплика (30) применяет сначала средний план, в котором пациентка попадает в инфантильную когорту «барахтающихся в набегающей волне», а затем благодаря операторскому приёму «переброски» [10] даётся общий план («спокойная синева»), который в данном случае символизирует мечту пациентки, в частности, за счёт цветового решения кадра (ведь терапевт мог сказать просто «плыть далеко-далеко»).
Масштаб и план изображения связаны с ракурсом, но неоднозначно. И крупный, и общий планы могут быть даны как из внешней позиции, так и из позиции самого пациента. Тогда в кларификации может появиться описание: «подозрительный пузырёк воздуха на надувном круге, побелевшие пальцы, вцепившиеся в резину, круг, кажется, стал чуть мягче, да, вот пузырьки... Сдувается!».
Благодаря таким крупным планам, данным из внутреннего ракурса, терапевт порой помогает клиенту в лабораторных условиях воспроизвести паническую реакцию, с тем чтобы понять и взять под контроль психологический механизм её запуска.
Даже эти несколько примеров достаточно ясно показывают, насколько пластические вариации кларификации обогащают палитру терапевтической техники.
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
К поэтическим относятся трансформации нарративных, литературно-риторических структур опыта пациента. Деятельность переживания в своих высших, продуктивных формах является процессом творческим и диалогическим. Поэтому и вся деятельность сопереживания психотерапевта, в том числе техника кларификации, направлена не только на прояснение уже наличного опыта, она соучаствует в эстетическом и этическом преобразовании жизненного мира пациента.
В связи с этим психотерапевтическая практика требует не только научно-психологической, но и литературоведческой (шире — искусствоведческой) рефлексии. Разумеется, последняя может быть полноценной лишь на достаточно развернутом материале, например, материале анализа композиционной структуры терапевтической встречи или анализа жанровой специфики клинического случая.
Однако даже на уровне простейших единиц психотерапевтической техники, к которым относится кларификация, можно отметить использование не только широкого спектра изобразительно-стилистических, выразительных языковых средств — фигур речи и тропов (метонимии и метафоры, гиперболы и литоты, олицетворения и перифраза, сравнения и эпитета), но и литературных средств более высокого порядка, таких как работа с композицией и сюжетом. Жанровая и стилистическая рефлексия рассказа пациента — необходимый пласт ведения терапевтического диалога.
Вот эпизод из консультации К. Роджерса с Джен [14; 52]:
(31) С: Да. Я не боюсь обязательств; к примеру, когда они оказываются частью моей работы, дружеских отношений, каких-то определённых дел. Но брак для меня очень...
(32) Т/К: То есть вы не безответственный человек или что-нибудь в этом роде... У вас есть обязательства на работе, в отношениях с друзьями. И лишь вступление в брак — это ужасно, как ад7.
___________________
7 Почему это пример кларификации, а не эмпатии, выражающей сильный страх пациента? Все описание по стилю объективистское — речь о браке как объекте, пусть и страшном, а не о чувстве ужаса.
___________________
Эта экспрессивная концовка — пример терапевтического использования гиперболы. К. Роджерс не стремится смягчить внутреннее напряжение клиента, а, как ни странно, напротив, обостряет его. Если бы речь шла о художественном произведении, можно было бы сказать, что здесь создаётся драматическая завязка сюжета, обостряется конфликт.
Такая «игра на обострение» не только художественно оправдана, но и терапевтически «выгодна» (К. Роджерс систематически пользуется этой стратегией). Во-первых, обострение придаёт «хорошую форму» проблеме клиента — ведь проблема не дана сразу в консультации в готовом виде, она формируется в диалоге клиента и терапевта, и чем более явно, полно, быстро и согласованно она будет сформирована, тем более благоприятен прогноз терапевтического процесса (это показывает исследование нашей сотрудницы Е.В. Мишиной [11]). Во-вторых, и сам процесс переживания пациента, совершающийся в лоне психотерапии, намного более продуктивен, если протекает в острой, а не в вялой форме.
Разумеется, в реальной терапии консультант не намеренно использует определённую фигуру речи, он ориентируется на «правду самого процесса». Однако «правда» эта содержит интуитивно ощущаемое эстетическое измерение. Можно ввести понятие «эстетическая конгруэнтность» как соответствие выразительных форм речи участников терапии общему смыслу переживания пациента и духу терапевтических отношений.
Например, пациентка, жалуясь на тревогу, вызванную смертью знакомой, не может попасть в тон самой себе: то говорит о глубокой затронутости, то описывает событие грубовато уплощённо («...покончила с собой — типа встретимся на том свете, и выбросилась с 13 этажа...»). Терапевт чутко реагирует на это стилистическое противоречие и помогает клиенту найти язык, более соответствующий реальной глубине её переживания.
Скажем, в кларификационном отклике выражение «покончила с собой» заменяется синонимическим «ушла из жизни». Синонимия, как известно, может выполнять как семантические функции (замещения, уточнения), так и стилистические (оценки и стилевой организации текста) [12]. В данном случае важна именно стилистическая, оценочная функция: выбрав из обширного синонимического ряда не нейтральное «умерла», трагическое «погибла», медицинское «совершила суицид» и т.д., а именно «ушла из жизни», терапевт придаёт диалогу более уважительный к таинству смерти тон, соответствующий экзистенциальному уровню переживания пациентки.
Анализ этого аспекта кларификации подводит к постановке более обобщённой исследовательской задачи — изучения «поэтики психотерапии».
Предельный смысл его в том, чтобы вступить с пациентом в отношения соавторства в творческом исследовании, изображении, выражении и преображении его жизненной ситуации с целью пробудить новые продуктивные стратегии и процессы переживания клиента. Тщательная разработка техники кларификации позволяет превратить её в гибкую и ёмкую психотехническую форму, через которую можно «прививать» к терапевтическому искусству элементы таких практик, как философская и научно-исследовательская деятельность, риторика, литературное творчество, сценарное и операторское мастерство.
Литература
(31) С: Да. Я не боюсь обязательств; к примеру, когда они оказываются частью моей работы, дружеских отношений, каких-то определённых дел. Но брак для меня очень...
(32) Т/К: То есть вы не безответственный человек или что-нибудь в этом роде... У вас есть обязательства на работе, в отношениях с друзьями. И лишь вступление в брак — это ужасно, как ад7.
___________________
7 Почему это пример кларификации, а не эмпатии, выражающей сильный страх пациента? Все описание по стилю объективистское — речь о браке как объекте, пусть и страшном, а не о чувстве ужаса.
___________________
Эта экспрессивная концовка — пример терапевтического использования гиперболы. К. Роджерс не стремится смягчить внутреннее напряжение клиента, а, как ни странно, напротив, обостряет его. Если бы речь шла о художественном произведении, можно было бы сказать, что здесь создаётся драматическая завязка сюжета, обостряется конфликт.
Такая «игра на обострение» не только художественно оправдана, но и терапевтически «выгодна» (К. Роджерс систематически пользуется этой стратегией). Во-первых, обострение придаёт «хорошую форму» проблеме клиента — ведь проблема не дана сразу в консультации в готовом виде, она формируется в диалоге клиента и терапевта, и чем более явно, полно, быстро и согласованно она будет сформирована, тем более благоприятен прогноз терапевтического процесса (это показывает исследование нашей сотрудницы Е.В. Мишиной [11]). Во-вторых, и сам процесс переживания пациента, совершающийся в лоне психотерапии, намного более продуктивен, если протекает в острой, а не в вялой форме.
Разумеется, в реальной терапии консультант не намеренно использует определённую фигуру речи, он ориентируется на «правду самого процесса». Однако «правда» эта содержит интуитивно ощущаемое эстетическое измерение. Можно ввести понятие «эстетическая конгруэнтность» как соответствие выразительных форм речи участников терапии общему смыслу переживания пациента и духу терапевтических отношений.
Например, пациентка, жалуясь на тревогу, вызванную смертью знакомой, не может попасть в тон самой себе: то говорит о глубокой затронутости, то описывает событие грубовато уплощённо («...покончила с собой — типа встретимся на том свете, и выбросилась с 13 этажа...»). Терапевт чутко реагирует на это стилистическое противоречие и помогает клиенту найти язык, более соответствующий реальной глубине её переживания.
Скажем, в кларификационном отклике выражение «покончила с собой» заменяется синонимическим «ушла из жизни». Синонимия, как известно, может выполнять как семантические функции (замещения, уточнения), так и стилистические (оценки и стилевой организации текста) [12]. В данном случае важна именно стилистическая, оценочная функция: выбрав из обширного синонимического ряда не нейтральное «умерла», трагическое «погибла», медицинское «совершила суицид» и т.д., а именно «ушла из жизни», терапевт придаёт диалогу более уважительный к таинству смерти тон, соответствующий экзистенциальному уровню переживания пациентки.
Анализ этого аспекта кларификации подводит к постановке более обобщённой исследовательской задачи — изучения «поэтики психотерапии».
*
Главный нерв представленной вниманию читателя статьи — в попытке показать, что кларификация — не просто способ прояснить для терапевта суть того, что сказал клиент, и не просто способ помочь клиенту навести фокус внимания на определённое содержание ради дальнейших терапевтических действий с ним. Незамысловатый технический приём, которым порой кажется кларификация, на поверку оказывается не банальным «отзеркаливанием», а настоящим творческим актом.Предельный смысл его в том, чтобы вступить с пациентом в отношения соавторства в творческом исследовании, изображении, выражении и преображении его жизненной ситуации с целью пробудить новые продуктивные стратегии и процессы переживания клиента. Тщательная разработка техники кларификации позволяет превратить её в гибкую и ёмкую психотехническую форму, через которую можно «прививать» к терапевтическому искусству элементы таких практик, как философская и научно-исследовательская деятельность, риторика, литературное творчество, сценарное и операторское мастерство.
Литература
- Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М.: Наука, 1981. С. 3-14.
- Бандлер Р., Гриндер Дж. Из лягушек — в принцы. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1992.
- Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб.: Питер, 2001.
- Василюк Ф.Е. Майевтика как базовый метод понимающей психотерапии // Вопр. психол. 2008. № 5. С. 31-43.
- Василюк Ф. Е. Модель стратиграфического анализа сознания // Моск. психотер. журн. 2008. № 4. С. 9-36.
- Василюк Ф. Е. Понимающая психотерапия: опыт построения психотехнической системы // Труды по психотерапии и психологическому консультированию. М., 2007. Вып. 1. С. 159-203.
- Василюк Ф.Е. Семиотика и техника эмпатии // Вопр. психол. 2007. № 1. С. 3-14.
- Василюк Ф.Е. Семиотика психотерапевтической ситуации и психотехника понимания // Моск. психотер. журн. 1996. № 4. С. 48-68.
- Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания и методы психологической помощи // Вопр. психол. 1988. № 5. С. 27-37.
- Волынец М.М. Профессия: оператор. М.: Аспект Пресс, 2008.
- Мишина Е.В. Феномен совместности в дебюте консультативного процесса // Консульт. психол. и психотерапия. 2010. № 2. С. 110—131.
- Новиков Л.А. Синонимия // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 446-447.
- Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. СПб.: Питер, 2006.
- Роджерс К. Клиентоцентрированный/человекоцентрированный подход в психотерапии // Вопр. психол. 2001. № 2. С. 48-58.
- Соммерз-Фланаган Дж., Соммерз-Фланаган Р. Клиническое интервьюирование. М.: Вильямс, 2006.
- Ягнюк К.В. Сессия Карла Роджерса с Глорией: анализ вербальных вмешательств // Журн. практич. психологии и психоанализа. 2001. № 1—2. Код доступа: http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20011204.
- Brammer L. The helping relationship: Process and skills. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1979.
- Mickleburgh W.E. Clarification of values in counseling and psychotherapy // Australian and New Zealand J. of Psychiatry. 1992. V. 26. N 3. P. 391-398.