Внимание! Этот текст находится в процессе редакции и адаптации для публикации на сайте. Настоящая версия предоставлена для предварительного ознакомления и может содержать неточности.
Модель хронотопа психотерапии
В статье вводится представление о хронотопе психотерапии, пространственное измерение которого выступает как «структура психотерапевтической ситуации», а темпоральное — как «время терапевтического процесса». Для построения модели хронотопа психотерапии используется схема «интегральной психологической единицы жизненного мира», которая была получена в результате теоретико-методологического синтеза основных психологических категорий, развитых в отечественной общей психологии, — деятельности, отношения, установки и общения. Модель позволяет систематизировать представления о базовых психотерапевтических категориях (клиент, психотерапевт, проблема, терапевтические отношения, контакт, контракт и др.) и связях между ними. Модель хронотопа психотерапии может быть использована для эмпирических исследований психотерапевтического процесса.
Ключевые слова: хронотоп психотерапии, структура психотерапевтической ситуации, психотерапевтическое время, клиент, терапевт, проблема, терапевтические отношения.
Главное психотерапевтическое «упование» экзистенциально-гуманистического направления в психотерапии — процесс переживания [Василюк, 2007]. В каждой из школ этого направления развиваются теоретические представления о переживании. В частности, в понимающей психотерапии разработаны концептуальные и методические модели, позволяющие терапевту ориентироваться в текущем процессе переживания клиента и содействовать этому процессу [Василюк, 2008]. Это центральная для данного типа психотерапии система ориентации, но — не единственная. Кроме нее терапевту необходимы средства для понимания психотерапевтических отношений, рабочего альянса, установок клиента, этапов психотерапии и т.д., словом, необходима максимально полная схема описания психотерапевтической ситуации и психотерапевтического процесса.
В понимающей терапии психотерапевту необходимо иметь теоретические и методические средства для психотехнической ориентировки в переживании клиента. Хотя это — важнейшее измерение понимающей психотерапии как подхода, который признает переживание главным психотерапевтическим упованием, но, при всей важности, оно — лишь одно из прочих, а психотерапевту необходима максимально полная схема описания психотерапевтической ситуации.
Для чего именно нужна подобная схема? У нее несколько функций. Во-первых, функция «карты», по которой терапевт может ориентироваться во всех аспектах терапевтической ситуации и терапевтического процесса. Во-вторых, функция опытно-клиническая. Чтобы психотерапевт мог накапливать и формировать свой профессиональный опыт, ему необходимо иметь простую и удобную рубрикацию записей для анализа основных событий проведенной терапевтической сессии. В-третьих, функция научно-аналитическая: только имея единообразную схему фиксации фактологии, можно рассчитывать на то, что психотерапевтическая клиника будет поставлять материал для научных исследований и сама будет методом, а не только объектом исследования.
Найти такую схему, кажется, нетрудно — нужно просто обратиться к руководствам по психотерапии (а не к авторским изложениям психотерапевтических подходов) и выписать сложившиеся в преподавательской практике категории описания психотерапевтического процесса. Однако на поверку оказывается, что авторы руководств стоят перед непростой задачей — многомерную и многоуровневую реальность психотерапии рубрицировать для последовательного линейного описания.
Например, С.Л. Волберг [Wolberg, 1977] в своем известном объемном руководстве (около 1500 страниц) «Техники психотерапии» избирает для первого уровня рубрикации формально-временной принцип: начальная фаза терапии — средняя фаза — завершающая фаза. Среди заголовков второго уровня есть главка с примечательным названием «Основные ингредиенты психотерапии». Автор ставит задачу перечисления «всех процессов, которые присущи… психотерапии» [Ibid., р. 44]. В список попали: «процедуры интервьюирования» (все элементы искусства ведения терапевтической беседы — речевые навыки, понимание невербального поведения, техники поддержания значимой вербализации пациента, методы понимания, включая интерпретацию), «установление рабочих терапевтических отношений», «определение источников и динамики проблемы пациента», «использование инсайта и понимание направления изменений», «сопротивление и готовность к изменениям», «особенности пациентов», «установки терапевта», «контрперенос», «завершение терапии» [Ibid., р. 44—49]. Безусловно, все перечисленные «ингредиенты» важны для описания и анализа конкретного психотерапевтического процесса. Однако бросается в глаза отсутствие внятной структурной логики в совокупности перечисленных ингредиентов1.
_________________________
1Сам термин, кстати, показателен: «ингредиент» — составная часть какой-либо смеси, а не элемент структуры.
_________________________
Подобная картина наблюдается и в других руководствах. Так, у Р.Л. Джоржди и Т.С. Кристиани [George, 1981] находим следующие рубрики описания консультативной практики: «консультант» (как личность, ценности консультанта, речь консультанта), «характеристика помогающих отношений» (терапевтический климат, характеристики эффективных консультативных отношений), «консультативные процедуры и навыки» (первичное интервью, структурирование сессии, эмпатия, идентификация тем, самораскрытие, интерпретация, определение целей, завершение…). В одном из самых добротных русскоязычных руководств Р. Кочюнаса [Кочюнас, 2000] предлагается следующий набор основных рубрик: «консультант» (роль и место в консультировании, система ценностей консультанта и др.), «консультативный контакт» (физические и эмоциональные компоненты терапевтического климата, навыки поддержания консультативного контакта, перенос и контрперенос в консультировании), «процесс психологического консультирования» (первая встреча, оценка проблем клиентов, процедуры и техники консультирования, структура процесса консультирования).
Достаточно приведенных примеров, чтобы сделать общий вывод. Предлагаемые авторами методы описания эмпирии психотерапевтической практики сами носят эмпирический, нетеоретический характер. Разумеется, каждый автор волен выбирать структуру представления материала терапевтической практики, которая наиболее соответствует его целям и взглядам. Но проблема заключается как раз в том, что в выборе этой структуры не видится никакой теоретической проблемы.
Если, тем не менее, принять такого рода рубрикации за первичные эмпирические классификации и наложить их друг на друга и попытаться минимизировать число исходных, базовых категорий, можно обнаружить, что самыми популярными, несокращаемыми из первичной рубрикации окажутся термины, либо прямо называющие, либо характеризующие такие элементы, как ПАЦИЕНТ, ТЕРАПЕВТ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Это эмпирическое обобщение можно представить следующим образом (рис. 1).
Ключевые слова: хронотоп психотерапии, структура психотерапевтической ситуации, психотерапевтическое время, клиент, терапевт, проблема, терапевтические отношения.
Главное психотерапевтическое «упование» экзистенциально-гуманистического направления в психотерапии — процесс переживания [Василюк, 2007]. В каждой из школ этого направления развиваются теоретические представления о переживании. В частности, в понимающей психотерапии разработаны концептуальные и методические модели, позволяющие терапевту ориентироваться в текущем процессе переживания клиента и содействовать этому процессу [Василюк, 2008]. Это центральная для данного типа психотерапии система ориентации, но — не единственная. Кроме нее терапевту необходимы средства для понимания психотерапевтических отношений, рабочего альянса, установок клиента, этапов психотерапии и т.д., словом, необходима максимально полная схема описания психотерапевтической ситуации и психотерапевтического процесса.
В понимающей терапии психотерапевту необходимо иметь теоретические и методические средства для психотехнической ориентировки в переживании клиента. Хотя это — важнейшее измерение понимающей психотерапии как подхода, который признает переживание главным психотерапевтическим упованием, но, при всей важности, оно — лишь одно из прочих, а психотерапевту необходима максимально полная схема описания психотерапевтической ситуации.
Для чего именно нужна подобная схема? У нее несколько функций. Во-первых, функция «карты», по которой терапевт может ориентироваться во всех аспектах терапевтической ситуации и терапевтического процесса. Во-вторых, функция опытно-клиническая. Чтобы психотерапевт мог накапливать и формировать свой профессиональный опыт, ему необходимо иметь простую и удобную рубрикацию записей для анализа основных событий проведенной терапевтической сессии. В-третьих, функция научно-аналитическая: только имея единообразную схему фиксации фактологии, можно рассчитывать на то, что психотерапевтическая клиника будет поставлять материал для научных исследований и сама будет методом, а не только объектом исследования.
Найти такую схему, кажется, нетрудно — нужно просто обратиться к руководствам по психотерапии (а не к авторским изложениям психотерапевтических подходов) и выписать сложившиеся в преподавательской практике категории описания психотерапевтического процесса. Однако на поверку оказывается, что авторы руководств стоят перед непростой задачей — многомерную и многоуровневую реальность психотерапии рубрицировать для последовательного линейного описания.
Например, С.Л. Волберг [Wolberg, 1977] в своем известном объемном руководстве (около 1500 страниц) «Техники психотерапии» избирает для первого уровня рубрикации формально-временной принцип: начальная фаза терапии — средняя фаза — завершающая фаза. Среди заголовков второго уровня есть главка с примечательным названием «Основные ингредиенты психотерапии». Автор ставит задачу перечисления «всех процессов, которые присущи… психотерапии» [Ibid., р. 44]. В список попали: «процедуры интервьюирования» (все элементы искусства ведения терапевтической беседы — речевые навыки, понимание невербального поведения, техники поддержания значимой вербализации пациента, методы понимания, включая интерпретацию), «установление рабочих терапевтических отношений», «определение источников и динамики проблемы пациента», «использование инсайта и понимание направления изменений», «сопротивление и готовность к изменениям», «особенности пациентов», «установки терапевта», «контрперенос», «завершение терапии» [Ibid., р. 44—49]. Безусловно, все перечисленные «ингредиенты» важны для описания и анализа конкретного психотерапевтического процесса. Однако бросается в глаза отсутствие внятной структурной логики в совокупности перечисленных ингредиентов1.
_________________________
1Сам термин, кстати, показателен: «ингредиент» — составная часть какой-либо смеси, а не элемент структуры.
_________________________
Подобная картина наблюдается и в других руководствах. Так, у Р.Л. Джоржди и Т.С. Кристиани [George, 1981] находим следующие рубрики описания консультативной практики: «консультант» (как личность, ценности консультанта, речь консультанта), «характеристика помогающих отношений» (терапевтический климат, характеристики эффективных консультативных отношений), «консультативные процедуры и навыки» (первичное интервью, структурирование сессии, эмпатия, идентификация тем, самораскрытие, интерпретация, определение целей, завершение…). В одном из самых добротных русскоязычных руководств Р. Кочюнаса [Кочюнас, 2000] предлагается следующий набор основных рубрик: «консультант» (роль и место в консультировании, система ценностей консультанта и др.), «консультативный контакт» (физические и эмоциональные компоненты терапевтического климата, навыки поддержания консультативного контакта, перенос и контрперенос в консультировании), «процесс психологического консультирования» (первая встреча, оценка проблем клиентов, процедуры и техники консультирования, структура процесса консультирования).
Достаточно приведенных примеров, чтобы сделать общий вывод. Предлагаемые авторами методы описания эмпирии психотерапевтической практики сами носят эмпирический, нетеоретический характер. Разумеется, каждый автор волен выбирать структуру представления материала терапевтической практики, которая наиболее соответствует его целям и взглядам. Но проблема заключается как раз в том, что в выборе этой структуры не видится никакой теоретической проблемы.
Если, тем не менее, принять такого рода рубрикации за первичные эмпирические классификации и наложить их друг на друга и попытаться минимизировать число исходных, базовых категорий, можно обнаружить, что самыми популярными, несокращаемыми из первичной рубрикации окажутся термины, либо прямо называющие, либо характеризующие такие элементы, как ПАЦИЕНТ, ТЕРАПЕВТ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Это эмпирическое обобщение можно представить следующим образом (рис. 1).

Если, однако, анализировать полный тезаурус относящихся к терапевтической практике терминов, то в нем обнаружится большое количество единиц, описывающих состояния клиента или его жизненной ситуации, которые послужили поводом для обращения к психотерапевту, которые являются объектом диагностики со стороны терапевта, мишенью терапевтических интервенций2. Следовательно, в первичную схему необходимо ввести самостоятельный элемент, который можно обобщенно назвать ПРОБЛЕМОЙ.
_________________
2Скажем, в словаре «Психоаналитические термины и понятия» [Психоаналитические термины..., 2000] под ред. Б.Э. Мура и Б.Д. Файна из всех понятий, которые можно отнести к описанию терапевтической ситуации и терапевтического процесса, подобных терминов — около 60%.
_________________
Можно было бы подойти к исходному вопросу и чисто логически: какие элементы с необходимостью входят в базовый состав психотерапевтической ситуации, без которых она не может существовать как таковая? Из многочисленных «ингредиентов» психотерапии на роль «первоэлементов» и в этом случае пришлось бы предложить клиента, терапевта и проблему. Причем из данной тройки наименее очевидным в качестве необходимого условия психотерапии, как это ни прискорбно для профессионального самолюбия, является психотерапевт, а самым очевидным — проблема. Сомневаться в обязательности терапевта заставляет довольно распространенная практика аутопсихотерапии, снабженная весьма дельными руководствами3. Впрочем, если фактически без психотерапевта в психотерапии обойтись можно, то логически все же нет: даже при аутопсихотерапии актуализируется внутренний персонаж, который берет на себя выполнение этой функции. Что касается проблемы, то обязательность ее присутствия в числе «первоэлементов» связана с тем очевидным обстоятельством, что без проблемы совместная деятельность клиента и терапевта оказалась бы беспредметной.
_________________
3См., например, книгу Дж. Рейнуотер [Рейнуотер, 1992] с характерным подзаголовком «Как стать своим собственным психотерапевтом». Порой общие цели психотерапии определяются именно через обращение клиента в личного терапевта для самого себя. Так авторы «Проблемно-ориентированной психотерапии» пишут: «Психотерапия направлена в первую очередь на улучшение способности пациента решать свои проблемы. Это должно позволить ему стать в конце психотерапии своим собственным психотерапевтом» [Блазер, 1998, с. 31]. Любопытно, что человеческая способность самостоятельного решения проблем трактуется не как ненужность психотерапевтической помощи, а как интроецирование фигуры психотерапевта.
_________________
_________________
2Скажем, в словаре «Психоаналитические термины и понятия» [Психоаналитические термины..., 2000] под ред. Б.Э. Мура и Б.Д. Файна из всех понятий, которые можно отнести к описанию терапевтической ситуации и терапевтического процесса, подобных терминов — около 60%.
_________________
Можно было бы подойти к исходному вопросу и чисто логически: какие элементы с необходимостью входят в базовый состав психотерапевтической ситуации, без которых она не может существовать как таковая? Из многочисленных «ингредиентов» психотерапии на роль «первоэлементов» и в этом случае пришлось бы предложить клиента, терапевта и проблему. Причем из данной тройки наименее очевидным в качестве необходимого условия психотерапии, как это ни прискорбно для профессионального самолюбия, является психотерапевт, а самым очевидным — проблема. Сомневаться в обязательности терапевта заставляет довольно распространенная практика аутопсихотерапии, снабженная весьма дельными руководствами3. Впрочем, если фактически без психотерапевта в психотерапии обойтись можно, то логически все же нет: даже при аутопсихотерапии актуализируется внутренний персонаж, который берет на себя выполнение этой функции. Что касается проблемы, то обязательность ее присутствия в числе «первоэлементов» связана с тем очевидным обстоятельством, что без проблемы совместная деятельность клиента и терапевта оказалась бы беспредметной.
_________________
3См., например, книгу Дж. Рейнуотер [Рейнуотер, 1992] с характерным подзаголовком «Как стать своим собственным психотерапевтом». Порой общие цели психотерапии определяются именно через обращение клиента в личного терапевта для самого себя. Так авторы «Проблемно-ориентированной психотерапии» пишут: «Психотерапия направлена в первую очередь на улучшение способности пациента решать свои проблемы. Это должно позволить ему стать в конце психотерапии своим собственным психотерапевтом» [Блазер, 1998, с. 31]. Любопытно, что человеческая способность самостоятельного решения проблем трактуется не как ненужность психотерапевтической помощи, а как интроецирование фигуры психотерапевта.
_________________
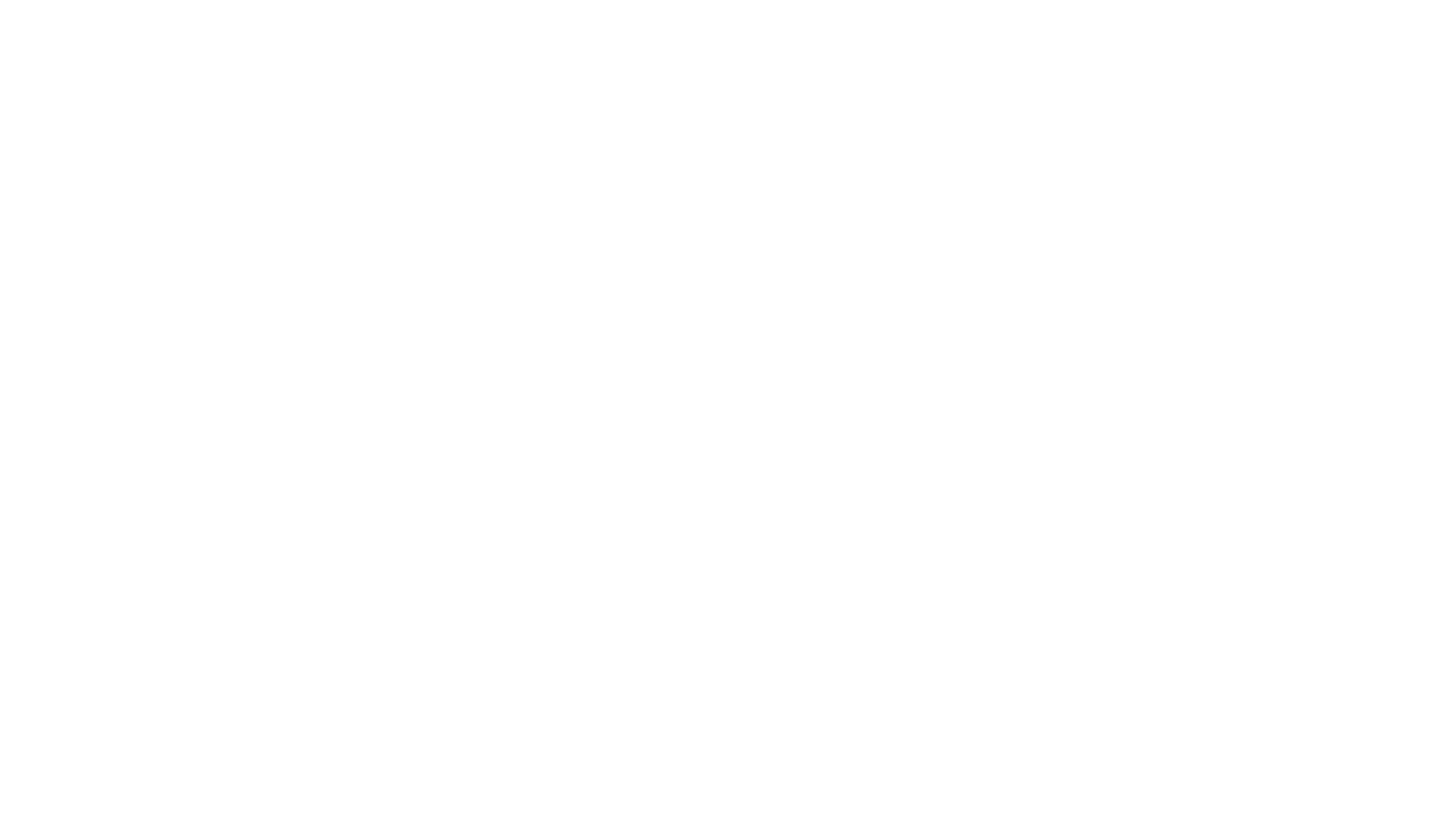
Это позиционирование проблемы как предмета совместной деятельности клиента и психотерапевта позволяет воспользоваться для описания структуры психотерапевтической ситуации моделью «интегральной психологической единицы анализа жизненного мира человека», которая была получена в результате теоретико-методологического синтеза [Василюк, 1986] основных психологических категорий, развитых в отечественной общей психологии, — категорий деятельности, отношения, установки и общения. В графическом виде схема психотерапевтической ситуации может быть представлена таким образом (рис. 2).
Чтобы интегрировать обе схемы, полученные индуктивным и дедуктивным путем, необходимо ввести понятие пространства-времени, или хронотопа психотерапии. Тогда пространством терапии, предметом ее синхронистического анализа, будет структура психотерапевтической ситуации, а временем терапии и, соответственно, предметом ее диахронного анализа — терапевтический процесс. Поскольку все элементы структуры терапевтической ситуации и отношения между ними претерпевают изменения в ходе терапевтического процесса, представление о хронотопе психотерапии можно схематизировать следующим образом (см. рис. 3).
Введение такой простой интегральной схемы дает много интересных теоретических возможностей (в частности, классификационных, компаративистских и др.), однако в рамках данной работы мы остановимся главным образом на описании пространственного измерения психотерапии, т.е. на характеристике структуры психотерапевтической ситуации. Причем и эту задачу приходится ограничить, поскольку анализ и описание любого элемента схемы, например, терапевтических отношений, — предмет огромного числа внушительных монографий. Поэтому мы предложим самое поверхностное описание основных элементов и связей данной структуры, чуть более подробно остановившись на одном из них — на полюсе проблемы. При этом основной предмет исследовательского интереса — не эмпирическая реальность психотерапии, а формы мысли об этой реальности, язык ее описания.
Для дальнейшего обсуждения полезно воспользоваться некоторыми понятиями, разработанными для логико-методологического анализа структур в Московском методологическом кружке под руководством Г.П. Щедровицкого. Мы будем различать «структурное место» и «содержательное наполнение» каждого элемента ситуации. Например, структурное место «проблема» в реальном консультативном процессе может быть заполнено жизненными обстоятельствами пациента (скажем, «проблема разрыва»), его эмоциональными состояниями («проблема ревности») или характерологическими особенностями («проблема вспыльчивости») и т.д. Каждый элемент может быть описан с точки зрения его «функций» по отношению к другим элементам ситуации (например, одна из функций элемента «проблема» состоит в том, чтобы служить предметом «совместной деятельности клиента и терапевта» — сумма Д1 и Д2 на рис. 2) и с точки зрения «роли», которую он играет по отношению к психотерапевтической ситуации в целом (скажем, если «проблема» осмысляется как «болезнь», то вся ситуация истолковывается как ситуация лечения, клиент видится как больной, а психотерапевт — как врач).
Исследуя структуру психотерапевтической ситуации, не будем забывать, что она представляет собой синхронистическую абстракцию от хронотопа. Поэтому любой элемент психотерапевтической ситуации невозможно мыслить как сущность, как равную себе вещь, но скорее как событие [см. Делёз, 1995, с. 17—19, 75].
Понятие «клиент»
В тексте данной работы мы пользуемся как термином «клиент», так и термином «пациент». Те авторы, которые настаивают на строгом разграничении психотерапии и консультирования, естественно, разводят эти понятия так, что клиент соотносится с консультированием, а пациент — с психотерапией. Для нас важно подчеркивание другого аспекта этих категорий. «Клиентом» человек является в системе контрактных отношений с консультантом, в рамках договора об оказании ему консультативных услуг. Пациент же, т.е. буквально «терпящий, претерпевающий страдание», он — по отношению к своей проблеме. Соответственно, в рамках предложенной структуры психотерапевтической ситуации оба термина отражают разные аспекты бытия человека в психотерапии.
С этой терминологической точки зрения интересно, что в рамках психоанализа пациент часто называется анализантом, т.е. получает имя, отражающее еще один аспект его бытия в терапевтической ситуации: он тот, по отношению к кому совершается акт анализа. Кем? Естественно, аналитиком. Но «аналитик» — структурная роль, которую в реальном процессе не обязательно играет вот этот специалист с дипломом, который получает гонорар. В лакановском анализе, например, «анализант» — это не тот, кого анализируют, а тот, кто занимается анализом самого себя [см. Fink, 1995, p. 3; Цапкин, 2008].
Представление о клиенте (пациенте), которое существует у психотерапевта, принадлежащего к той или иной школе, формируется под влиянием сложной иерархической системы его профессионального мышления. В такой системе, во-первых, следует выделить общую онтологическую картину: это может быть отношение «организм — среда», «личность — социум», «человек — мир», «внутренний мир», «человек — Бог» и т.д. Далее следуют собственно антропологические воззрения. В учебниках по психотерапии, характеризуя психотерапевтические школы, часто вводят параграф под названием «Представление о человеческой природе». Та или иная антропология является скорее результатом философской интуиции и априорной убежденности, нежели следствием позитивных исследований. Эта антропология всегда включает в себя явные или скрытые представления об идеале [Сосланд, 1999]. «Хорошо функционирующая личность» [Роджерс, 2001], «способность любить и работать» (Фрейд), «зрелость» (Перлз) — примеры таких антропологических идеалов.
Следующий уровень указанной системы представлений психотерапевта — это та или иная психологическая теория личности. Она может опираться на академические исследования, но чаще является «метапсихологической», выращенной из наблюдений и концептуализаций психотерапевтического опыта. Важное место в теории личности как конструктивном элементе всякой школьной психотерапевтической теории занимают представления о мотивациях, структуре личности, ее развитии. Чтобы подчеркнуть особенности функционирования этих представлений не в научно-исследовательском контексте, а в контексте социальной жизни школьной психотерапевтической теории, А.И. Сосланд сконструировал специальные метапонятия. Например, концепт «купидо» не описывает какое-то особое влечение конкретной личности, «когда мы говорим о купидо, — поясняет автор, — имеется в виду, что в структуре той или иной теории мы сталкиваемся с понятием, обозначающим некое влечение» [Сосланд, 1999, с. 154].
Особо следует выделить типологические представления. Типологические представления о клиентах являются важным компонентом психотерапевтического мышления. Стоит различать типологии объективистские и феноменологические, номотетические и идеографические. Первые из них движутся от частного к общему, от неизвестного к известному, от неточного к точному. Вершиной такого типологического мышления является точный характерологический или клинический диагноз, т.е. отнесение пациента к тому или иному ранее описанному и известному типу, будь то тип характера или нозологическая единица. Эта объективирующая типология характеризует пациента как третье лицо, т.е. является продуктом профессионального диалога «психотерапевт — психотерапевт» и адекватна ситуации консилиума или супервизии. Типологическая квалификация эксплицирует лишь фигуру пациента, сохраняя невидимой фигуру самого терапевта, с позиции которого эта квалификация производится.
Феноменологическая типологизация, напротив, мыслит клиента именно как участника диалогических психотерапевтических отношений. Например, А.Ф. Копьев [Копьев, 1992] предлагает различать закрытых и открытых клиентов. Это не характеристика человека, например, как шизоида или истероида, а квалификация его именно в системе терапевтических отношений. Такого рода восприятие клиента порой стремится вовсе выйти за пределы типологического мышления; оно движется от общего к частному, от схемы человека к уникальному лику, от известного к неизвестному, от поверхностного к глубокому. Предельная точка данного мышления — восприятие пациента в его человеческой уникальности.
Этот тип построения образа клиента намного больше напоминает художественное портретирование, чем клиническую диагностику. «Сколько покровов нужно снять с лица самого близкого, по-видимому, хорошо знакомого человека, покровов, нанесенных на него нашими случайными реакциями, отношениями и случайными жизненными положениями, чтобы увидеть истинным и целым лик его. Борьба художника за определенный устойчивый образ героя есть в немалой степени его борьба с самим собой» [Бахтин, 1979, с. 8]. Подобно этому проходит и борьба психотерапевта (тоже с самим собой) за формирование истинного и устойчивого образа клиента. Но сам этот образ неотделим от диалога, дан в плоскости Я—Ты-отношений и есть предмет обсуждения с клиентом.
В психотерапии могут оказаться существенными любые психологические, биологические и социальные характеристики клиента, в той мере, в которой они влияют на терапевтический процесс. Например, для прогноза успешности психотерапии важны такие характеристики, как возраст, социальная ситуация, семейное положение, уровень интеллекта и т.д.
Для анализа понятия «клиент» и реального психотехнического его использования психотерапевту важно удерживать в мысли то очевидное обстоятельство, что у человека, ставшего пациентом психотерапии, есть независимая от психотерапии жизнь, в контексте которой вся психотерапия — только маленькая и необязательная часть.
Человек совершает некие внутренние акты для того, чтобы встать в позицию клиента (например, акт смирения, признания своей несостоятельности, акт риска и доверия другому, готовность к открытости и т.д.). В этом смысле «клиент» не первичная онтологическая реальность, а всегда уже некое «произведение», состояние, в которое человек вошел и которое он готов в себе культивировать для участия в терапевтической работе. Поэтому понятие «клиент» логико-генетически связано с понятием процессов переходов между «жизнью» и «миром терапии».
Эти переходы между «жизнью» и «психотерапией» являются не просто объективным фактом, а значимым фактором самой терапевтической ситуации. Например, принудительная психотерапия создает ситуацию, в которой внешне человек оказывается в позиции клиента, но внутренне он может быть настроен крайне негативно. В таком случае фокусом первого этапа терапевтической работы становится сам указанный переход, помощь человеку в занятии внутренней позиции клиента.
Разумеется, важным аспектом характеристики клиента является не только его восприятие психотерапевтом, но и его собственное отношение к психотерапии и психотерапевту, его ожидания, надежды, страхи по отношению к самому психотерапевтическому процессу и к самому себе в роли пациента [см. Шеховцова, 1996, с. 41].
В разных психотерапевтических школах есть разные представления о том, каков должен быть идеальный клиент [см. Шеховцова, 1996, с. 44; Ясперс, 1997, с. 950]. Речь в данном случае не об антропологическом идеале, а об идеале функциональном. Поскольку большинство людей, обращающихся за психотерапевтической помощью, не знают «функциональных обязанностей» клиента и не владеют иногда очень специфическим клиентским ремеслом, психотерапевтическая техника любого подхода явно или неявно включает в себя этап (или аспект) обучения человека.
Например, в психоанализе пациенту нужно научиться следовать основному правилу, на что уходит немало времени. В методе фокусирования [Джендлин, 2000] проводится специальный подготовительный этап, во время которого человека учат быть хорошим клиентом. Это означает в данном случае овладение навыком вслушивания в непосредственное телесное переживание и символизацию этого опыта. Данная тема напрямую связана с темой деятельности клиента по отношению к проблеме, которая с точки зрения структурной схемы терапевтической ситуации (см. рис. 2) относится к следующему подразделу.
Клиент — проблема
В этом аспекте структуры психотерапевтической ситуации описываются две важные составляющие — отношение клиента к проблеме и деятельность клиента по отношению к проблеме. Терапевтически значимо не только то, как клиент видит, понимает и формулирует свою проблему, но и то, как он к ней относится. Это отношение может быть оценочным: клиент может считать свою проблему глобальной, неразрешимой, стыдной и пр., или, напротив, не очень значимой, недостойной того, чтобы отнимать время у занятого человека и т.д. Понятно, что само отношение к проблеме может быть предметом терапевтической проработки.
Кроме оценки, важна волевая установка клиента, его решимость и готовность преодолеть проблему, справиться с ней, или, напротив, переживание своей беспомощности и капитуляции перед лицом проблемы.
Анализируя понятие продуктивного процесса в рамках характеристики структуры психотерапевтической теории [Василюк, 2008], мы, по существу, описывали деятельность клиента по отношению к проблеме. В понимающей психотерапии основная деятельность клиента мыслится как работа переживания. В соответствии с отечественной традицией можно сказать, что в ситуации кризиса работа переживания становится ведущей деятельностью, т.е. той, которая определяет собой развитие личности.
Психотерапевт
В исследованиях эффективности психотерапии неоднократно было показано, что одним из главных факторов, обеспечивающих терапевтический результат, является не метод, а личность психотерапевта. Существует немало перечней, описывающих личность терапевта с помощью различных качеств и черт. Особенно подчеркивается значимость таких трудно операционализируемых особенностей, как открытость, искренность, конгруэнтность, подлинность, способность к присутствию, юмор и т.д. Именно поэтому профессиональные терапевтические ассоциации и учебные институции, во-первых, стремятся выдвигать достаточно строгие требования к отбору кандидатов, а во-вторых, большое внимание уделяют личностной подготовке психотерапевтов, пользуясь такими образовательными формами, как дидактическая терапия, супервизия, различные практики самопознания.
Не стоит забывать, что основатель всей современной психотерапии З. Фрейд проделал огромную работу по самоанализу и тем самым заложил основы традиции, которую можно было бы назвать психотерапевтической «аскетикой», или, вслед за К. Юнгом [Юнг, 1993, с. 33—34], — самовоспитанием психотерапевта.
Переход от объективистского описания личности терапевта в терминах свойств и черт к «аскетическому» представляется более соответствующим духу самой психотерапии. Психотерапевт должен оцениваться не как ставшее, а как становящееся бытие. Его профессиональные обязательства в отношении к собственной личности состоят не в том, чтобы соответствовать наперед выдвинутому идеалу, а в том, чтобы быть в пути, культивировать ту или иную практику работы над собой. Такая практика включает в себя и ценностно-философское измерение. В этом смысле К. Ясперс полагал, что терапевт обязан быть философом [Ясперс, 1997, с. 953, 961].
Продуктом внутренней работы терапевта над собой является то, что Э. Минделл назвала «метанавыками» психотерапевта. Можно сказать, что метанавыки — это способы бытия терапевта как личности, которые проявляются и осуществляются в психотерапевтической ситуации.
Важнейший аспект анализа категории «психотерапевт» в контексте структуры психотерапевтической ситуации — проблема «рабочих состояний» психотерапевта, которые он должен в себе культивировать в ходе психотерапевтического сеанса. З. Фрейд писал о «равнораспределенном внимании», которое является особым (по мнению многих аналитиков — «регрессивным») состоянием, дающим возможность аналитику своим бессознательным воспринимать бессознательное пациента.
«Здесь речь идет о настрое на восприятие, при помощи которого поведение и переживания пациента, а также раскрывающиеся в них процессы могут быть отражены внутренним миром терапевта (в его ассоциациях, фантазиях, чувствах и телесных ощущениях) и использованы как материальный базис для диагностических и терапевтических выводов [Higel-Evers, Rosin, 1984, c. 95]» [цит. по: Хайгл-Эверс, 2001, с. 229]. Совсем другим примером этого же ряда может служить понятие конгруэнтности в личностно-центрированной психотерапии К. Роджерса.
Таким образом, экспериментальные доказательства того, что психотерапевт является важнейшим фактором эффективности, следует понимать не натуралистически, а психотехнически — как задачу развития культуры внутренней деятельности психотерапевта, психотерапевтической аскетики.
Терапевт — проблема
Терапевт осуществляет различные действия по отношению к проблеме клиента, выбирает те или иные методы этих действий, так или иначе обрабатывает или перерабатывает проблему. Однако, прежде всего, терапевт определенным образом относится к заявленной проблеме. Она может показаться ему легкомысленной или подавляющей, непреодолимой, отвратительной или интригующей и т.п. Само отношение как первичный факт может по-разному прорабатываться психотехнически. Главное измерение этой проработки состоит в том, чтобы быть открытым к этому отношению, признавать его реальность и уметь конвертировать его в эффективный психотерапевтический диалог. Конгруэнтность терапевта не является раз и навсегда данным качеством; она поддерживается и всякий раз заново восстанавливается усилием по самопониманию и диалогической открытости.
Что касается деятельности психотерапевта, то, прежде всего, следует зафиксировать, что она является элементом целостной психотехнической ситуации, а не актом воздействия на некую вещь под названием «проблема». Жанр и форма любых психотерапевтических действий откликаются на всю терапевтическую ситуацию и формируют её. Например, простой вопрос терапевта: «Расскажите, когда и с чего это у вас началось?» в реальности психотерапевтической ситуации оказывается не только способом получения информации, но и посланием, формирующим психотерапевтические отношения, ожидания и перспективы. Такой вопрос ставит клиента в рефлексивную позицию, задает диагностически-исследовательскую установку и одновременно внушает надежду, что можно будет получить от терапевта какие-то рекомендации, частично снимая ответственность с клиента («сейчас я ему всё расскажу, и он мне скажет, что со мной происходит, как быть, что делать»). Этот вопрос влияет не только на клиента и его отношение к консультанту, но и на самого консультанта.
Способ опроса пациента во многом определяет, как будет квалифицироваться проблемное состояние в терапии. Даже при лечении тяжелых психотических расстройств клинические эксперименты показывают, что терапевтически «выгоднее» описывать неблагополучие пациента не в терминах диагноза, а в терминах проблемы. Специалист по семейной терапии шизофрении пишет: «Для начала лечения намного более соответствующим является не установление диагноза, а формулировка проблемы. Такая формулировка включает в себя и симптомы, и жизненные обстоятельства, показывая, как эти трудности воспринимаются и кем, какие последствия они имеют для всех людей, вовлеченных в проблему, что эти люди думают по поводу того, что они могут или должны сделать» [Wyenne, 1983, р. 25]. Автор ссылается на эксперименты Р. Лонгбауха [Longabaugh, 1979], показавшие, что результаты лечения «проблемы» лучше, чем результаты лечения «диагноза».
Можно говорить о принципе соответствия проблемы и психотерапевтического метода. Однако дело обстоит не натуралистически, так чтобы терапевт с большей или меньшей точностью диагностировал объективно существующую проблему и затем подбирал бы адекватный метод терапии. В рамках психотехнического форматирования проблемы существует определённая степень пластичности у проблемного материала клиента, и этому материалу может быть придана разная форма в зависимости от того, какой метод терапии есть в распоряжении консультанта. Одна и та же проблема или её существенные аспекты могут быть отформатированы как проблема выбора, проблема стресса или межличностного конфликта, если у терапевта есть соответствующие техники. Таким образом, существует взаимная детерминация проблемы и метода: некоторые проблемы требуют формирования соответствующего метода, но и метод может потребовать в реальной психотерапевтической ситуации соответствующего форматирования проблемы.
В ходе первичной проработки проблемы клиента терапевт может предлагать разные категоризации жалоб клиента. Любая жалоба, например, головная боль или заикание, может быть истолкована по-разному, и от этого зависит многое в психотехническом формировании ситуации. Симптом может быть осмыслен как страдание, для чего терапевт должен отразить те ценности и мотивы, которые терпят ущерб от сложившейся ситуации («особенно вы страдаете от того, что это не даёт вам возможности реализовать себя»). Симптом может быть осмыслен как некая способность или умение, например, в технике парадоксальной интенции (В. Франкл). Симптом может быть истолкован также как средство, помеха, сообщение, послание и т.д.
Деятельность терапевта представлена в психотерапии не только его фактическими действиями, но и соответствующими ожиданиями со стороны клиента. Эти ожидания психотехнически значимы независимо от того, собирается ли терапевт их выполнять или нет. Например, если пациентка на первом сеансе просит провести с ней гипноз, чтобы забыть всё, что связывает её с мужем после недавнего развода, то сам такой запрос показывает не только желаемый метод терапии, но и желаемые терапевтические отношения, а также её собственную установку по отношению к проблеме (беспомощность, бегство, желание устранить проблему, а не преодолеть её). Отвечая на такой запрос, терапевт должен учитывать всю целостную ситуацию, а не только поверхностный «заказ» на определённый метод.
Чтобы интегрировать обе схемы, полученные индуктивным и дедуктивным путем, необходимо ввести понятие пространства-времени, или хронотопа психотерапии. Тогда пространством терапии, предметом ее синхронистического анализа, будет структура психотерапевтической ситуации, а временем терапии и, соответственно, предметом ее диахронного анализа — терапевтический процесс. Поскольку все элементы структуры терапевтической ситуации и отношения между ними претерпевают изменения в ходе терапевтического процесса, представление о хронотопе психотерапии можно схематизировать следующим образом (см. рис. 3).
Введение такой простой интегральной схемы дает много интересных теоретических возможностей (в частности, классификационных, компаративистских и др.), однако в рамках данной работы мы остановимся главным образом на описании пространственного измерения психотерапии, т.е. на характеристике структуры психотерапевтической ситуации. Причем и эту задачу приходится ограничить, поскольку анализ и описание любого элемента схемы, например, терапевтических отношений, — предмет огромного числа внушительных монографий. Поэтому мы предложим самое поверхностное описание основных элементов и связей данной структуры, чуть более подробно остановившись на одном из них — на полюсе проблемы. При этом основной предмет исследовательского интереса — не эмпирическая реальность психотерапии, а формы мысли об этой реальности, язык ее описания.
Для дальнейшего обсуждения полезно воспользоваться некоторыми понятиями, разработанными для логико-методологического анализа структур в Московском методологическом кружке под руководством Г.П. Щедровицкого. Мы будем различать «структурное место» и «содержательное наполнение» каждого элемента ситуации. Например, структурное место «проблема» в реальном консультативном процессе может быть заполнено жизненными обстоятельствами пациента (скажем, «проблема разрыва»), его эмоциональными состояниями («проблема ревности») или характерологическими особенностями («проблема вспыльчивости») и т.д. Каждый элемент может быть описан с точки зрения его «функций» по отношению к другим элементам ситуации (например, одна из функций элемента «проблема» состоит в том, чтобы служить предметом «совместной деятельности клиента и терапевта» — сумма Д1 и Д2 на рис. 2) и с точки зрения «роли», которую он играет по отношению к психотерапевтической ситуации в целом (скажем, если «проблема» осмысляется как «болезнь», то вся ситуация истолковывается как ситуация лечения, клиент видится как больной, а психотерапевт — как врач).
Исследуя структуру психотерапевтической ситуации, не будем забывать, что она представляет собой синхронистическую абстракцию от хронотопа. Поэтому любой элемент психотерапевтической ситуации невозможно мыслить как сущность, как равную себе вещь, но скорее как событие [см. Делёз, 1995, с. 17—19, 75].
Понятие «клиент»
В тексте данной работы мы пользуемся как термином «клиент», так и термином «пациент». Те авторы, которые настаивают на строгом разграничении психотерапии и консультирования, естественно, разводят эти понятия так, что клиент соотносится с консультированием, а пациент — с психотерапией. Для нас важно подчеркивание другого аспекта этих категорий. «Клиентом» человек является в системе контрактных отношений с консультантом, в рамках договора об оказании ему консультативных услуг. Пациент же, т.е. буквально «терпящий, претерпевающий страдание», он — по отношению к своей проблеме. Соответственно, в рамках предложенной структуры психотерапевтической ситуации оба термина отражают разные аспекты бытия человека в психотерапии.
С этой терминологической точки зрения интересно, что в рамках психоанализа пациент часто называется анализантом, т.е. получает имя, отражающее еще один аспект его бытия в терапевтической ситуации: он тот, по отношению к кому совершается акт анализа. Кем? Естественно, аналитиком. Но «аналитик» — структурная роль, которую в реальном процессе не обязательно играет вот этот специалист с дипломом, который получает гонорар. В лакановском анализе, например, «анализант» — это не тот, кого анализируют, а тот, кто занимается анализом самого себя [см. Fink, 1995, p. 3; Цапкин, 2008].
Представление о клиенте (пациенте), которое существует у психотерапевта, принадлежащего к той или иной школе, формируется под влиянием сложной иерархической системы его профессионального мышления. В такой системе, во-первых, следует выделить общую онтологическую картину: это может быть отношение «организм — среда», «личность — социум», «человек — мир», «внутренний мир», «человек — Бог» и т.д. Далее следуют собственно антропологические воззрения. В учебниках по психотерапии, характеризуя психотерапевтические школы, часто вводят параграф под названием «Представление о человеческой природе». Та или иная антропология является скорее результатом философской интуиции и априорной убежденности, нежели следствием позитивных исследований. Эта антропология всегда включает в себя явные или скрытые представления об идеале [Сосланд, 1999]. «Хорошо функционирующая личность» [Роджерс, 2001], «способность любить и работать» (Фрейд), «зрелость» (Перлз) — примеры таких антропологических идеалов.
Следующий уровень указанной системы представлений психотерапевта — это та или иная психологическая теория личности. Она может опираться на академические исследования, но чаще является «метапсихологической», выращенной из наблюдений и концептуализаций психотерапевтического опыта. Важное место в теории личности как конструктивном элементе всякой школьной психотерапевтической теории занимают представления о мотивациях, структуре личности, ее развитии. Чтобы подчеркнуть особенности функционирования этих представлений не в научно-исследовательском контексте, а в контексте социальной жизни школьной психотерапевтической теории, А.И. Сосланд сконструировал специальные метапонятия. Например, концепт «купидо» не описывает какое-то особое влечение конкретной личности, «когда мы говорим о купидо, — поясняет автор, — имеется в виду, что в структуре той или иной теории мы сталкиваемся с понятием, обозначающим некое влечение» [Сосланд, 1999, с. 154].
Особо следует выделить типологические представления. Типологические представления о клиентах являются важным компонентом психотерапевтического мышления. Стоит различать типологии объективистские и феноменологические, номотетические и идеографические. Первые из них движутся от частного к общему, от неизвестного к известному, от неточного к точному. Вершиной такого типологического мышления является точный характерологический или клинический диагноз, т.е. отнесение пациента к тому или иному ранее описанному и известному типу, будь то тип характера или нозологическая единица. Эта объективирующая типология характеризует пациента как третье лицо, т.е. является продуктом профессионального диалога «психотерапевт — психотерапевт» и адекватна ситуации консилиума или супервизии. Типологическая квалификация эксплицирует лишь фигуру пациента, сохраняя невидимой фигуру самого терапевта, с позиции которого эта квалификация производится.
Феноменологическая типологизация, напротив, мыслит клиента именно как участника диалогических психотерапевтических отношений. Например, А.Ф. Копьев [Копьев, 1992] предлагает различать закрытых и открытых клиентов. Это не характеристика человека, например, как шизоида или истероида, а квалификация его именно в системе терапевтических отношений. Такого рода восприятие клиента порой стремится вовсе выйти за пределы типологического мышления; оно движется от общего к частному, от схемы человека к уникальному лику, от известного к неизвестному, от поверхностного к глубокому. Предельная точка данного мышления — восприятие пациента в его человеческой уникальности.
Этот тип построения образа клиента намного больше напоминает художественное портретирование, чем клиническую диагностику. «Сколько покровов нужно снять с лица самого близкого, по-видимому, хорошо знакомого человека, покровов, нанесенных на него нашими случайными реакциями, отношениями и случайными жизненными положениями, чтобы увидеть истинным и целым лик его. Борьба художника за определенный устойчивый образ героя есть в немалой степени его борьба с самим собой» [Бахтин, 1979, с. 8]. Подобно этому проходит и борьба психотерапевта (тоже с самим собой) за формирование истинного и устойчивого образа клиента. Но сам этот образ неотделим от диалога, дан в плоскости Я—Ты-отношений и есть предмет обсуждения с клиентом.
В психотерапии могут оказаться существенными любые психологические, биологические и социальные характеристики клиента, в той мере, в которой они влияют на терапевтический процесс. Например, для прогноза успешности психотерапии важны такие характеристики, как возраст, социальная ситуация, семейное положение, уровень интеллекта и т.д.
Для анализа понятия «клиент» и реального психотехнического его использования психотерапевту важно удерживать в мысли то очевидное обстоятельство, что у человека, ставшего пациентом психотерапии, есть независимая от психотерапии жизнь, в контексте которой вся психотерапия — только маленькая и необязательная часть.
Человек совершает некие внутренние акты для того, чтобы встать в позицию клиента (например, акт смирения, признания своей несостоятельности, акт риска и доверия другому, готовность к открытости и т.д.). В этом смысле «клиент» не первичная онтологическая реальность, а всегда уже некое «произведение», состояние, в которое человек вошел и которое он готов в себе культивировать для участия в терапевтической работе. Поэтому понятие «клиент» логико-генетически связано с понятием процессов переходов между «жизнью» и «миром терапии».
Эти переходы между «жизнью» и «психотерапией» являются не просто объективным фактом, а значимым фактором самой терапевтической ситуации. Например, принудительная психотерапия создает ситуацию, в которой внешне человек оказывается в позиции клиента, но внутренне он может быть настроен крайне негативно. В таком случае фокусом первого этапа терапевтической работы становится сам указанный переход, помощь человеку в занятии внутренней позиции клиента.
Разумеется, важным аспектом характеристики клиента является не только его восприятие психотерапевтом, но и его собственное отношение к психотерапии и психотерапевту, его ожидания, надежды, страхи по отношению к самому психотерапевтическому процессу и к самому себе в роли пациента [см. Шеховцова, 1996, с. 41].
В разных психотерапевтических школах есть разные представления о том, каков должен быть идеальный клиент [см. Шеховцова, 1996, с. 44; Ясперс, 1997, с. 950]. Речь в данном случае не об антропологическом идеале, а об идеале функциональном. Поскольку большинство людей, обращающихся за психотерапевтической помощью, не знают «функциональных обязанностей» клиента и не владеют иногда очень специфическим клиентским ремеслом, психотерапевтическая техника любого подхода явно или неявно включает в себя этап (или аспект) обучения человека.
Например, в психоанализе пациенту нужно научиться следовать основному правилу, на что уходит немало времени. В методе фокусирования [Джендлин, 2000] проводится специальный подготовительный этап, во время которого человека учат быть хорошим клиентом. Это означает в данном случае овладение навыком вслушивания в непосредственное телесное переживание и символизацию этого опыта. Данная тема напрямую связана с темой деятельности клиента по отношению к проблеме, которая с точки зрения структурной схемы терапевтической ситуации (см. рис. 2) относится к следующему подразделу.
Клиент — проблема
В этом аспекте структуры психотерапевтической ситуации описываются две важные составляющие — отношение клиента к проблеме и деятельность клиента по отношению к проблеме. Терапевтически значимо не только то, как клиент видит, понимает и формулирует свою проблему, но и то, как он к ней относится. Это отношение может быть оценочным: клиент может считать свою проблему глобальной, неразрешимой, стыдной и пр., или, напротив, не очень значимой, недостойной того, чтобы отнимать время у занятого человека и т.д. Понятно, что само отношение к проблеме может быть предметом терапевтической проработки.
Кроме оценки, важна волевая установка клиента, его решимость и готовность преодолеть проблему, справиться с ней, или, напротив, переживание своей беспомощности и капитуляции перед лицом проблемы.
Анализируя понятие продуктивного процесса в рамках характеристики структуры психотерапевтической теории [Василюк, 2008], мы, по существу, описывали деятельность клиента по отношению к проблеме. В понимающей психотерапии основная деятельность клиента мыслится как работа переживания. В соответствии с отечественной традицией можно сказать, что в ситуации кризиса работа переживания становится ведущей деятельностью, т.е. той, которая определяет собой развитие личности.
Психотерапевт
В исследованиях эффективности психотерапии неоднократно было показано, что одним из главных факторов, обеспечивающих терапевтический результат, является не метод, а личность психотерапевта. Существует немало перечней, описывающих личность терапевта с помощью различных качеств и черт. Особенно подчеркивается значимость таких трудно операционализируемых особенностей, как открытость, искренность, конгруэнтность, подлинность, способность к присутствию, юмор и т.д. Именно поэтому профессиональные терапевтические ассоциации и учебные институции, во-первых, стремятся выдвигать достаточно строгие требования к отбору кандидатов, а во-вторых, большое внимание уделяют личностной подготовке психотерапевтов, пользуясь такими образовательными формами, как дидактическая терапия, супервизия, различные практики самопознания.
Не стоит забывать, что основатель всей современной психотерапии З. Фрейд проделал огромную работу по самоанализу и тем самым заложил основы традиции, которую можно было бы назвать психотерапевтической «аскетикой», или, вслед за К. Юнгом [Юнг, 1993, с. 33—34], — самовоспитанием психотерапевта.
Переход от объективистского описания личности терапевта в терминах свойств и черт к «аскетическому» представляется более соответствующим духу самой психотерапии. Психотерапевт должен оцениваться не как ставшее, а как становящееся бытие. Его профессиональные обязательства в отношении к собственной личности состоят не в том, чтобы соответствовать наперед выдвинутому идеалу, а в том, чтобы быть в пути, культивировать ту или иную практику работы над собой. Такая практика включает в себя и ценностно-философское измерение. В этом смысле К. Ясперс полагал, что терапевт обязан быть философом [Ясперс, 1997, с. 953, 961].
Продуктом внутренней работы терапевта над собой является то, что Э. Минделл назвала «метанавыками» психотерапевта. Можно сказать, что метанавыки — это способы бытия терапевта как личности, которые проявляются и осуществляются в психотерапевтической ситуации.
Важнейший аспект анализа категории «психотерапевт» в контексте структуры психотерапевтической ситуации — проблема «рабочих состояний» психотерапевта, которые он должен в себе культивировать в ходе психотерапевтического сеанса. З. Фрейд писал о «равнораспределенном внимании», которое является особым (по мнению многих аналитиков — «регрессивным») состоянием, дающим возможность аналитику своим бессознательным воспринимать бессознательное пациента.
«Здесь речь идет о настрое на восприятие, при помощи которого поведение и переживания пациента, а также раскрывающиеся в них процессы могут быть отражены внутренним миром терапевта (в его ассоциациях, фантазиях, чувствах и телесных ощущениях) и использованы как материальный базис для диагностических и терапевтических выводов [Higel-Evers, Rosin, 1984, c. 95]» [цит. по: Хайгл-Эверс, 2001, с. 229]. Совсем другим примером этого же ряда может служить понятие конгруэнтности в личностно-центрированной психотерапии К. Роджерса.
Таким образом, экспериментальные доказательства того, что психотерапевт является важнейшим фактором эффективности, следует понимать не натуралистически, а психотехнически — как задачу развития культуры внутренней деятельности психотерапевта, психотерапевтической аскетики.
Терапевт — проблема
Терапевт осуществляет различные действия по отношению к проблеме клиента, выбирает те или иные методы этих действий, так или иначе обрабатывает или перерабатывает проблему. Однако, прежде всего, терапевт определенным образом относится к заявленной проблеме. Она может показаться ему легкомысленной или подавляющей, непреодолимой, отвратительной или интригующей и т.п. Само отношение как первичный факт может по-разному прорабатываться психотехнически. Главное измерение этой проработки состоит в том, чтобы быть открытым к этому отношению, признавать его реальность и уметь конвертировать его в эффективный психотерапевтический диалог. Конгруэнтность терапевта не является раз и навсегда данным качеством; она поддерживается и всякий раз заново восстанавливается усилием по самопониманию и диалогической открытости.
Что касается деятельности психотерапевта, то, прежде всего, следует зафиксировать, что она является элементом целостной психотехнической ситуации, а не актом воздействия на некую вещь под названием «проблема». Жанр и форма любых психотерапевтических действий откликаются на всю терапевтическую ситуацию и формируют её. Например, простой вопрос терапевта: «Расскажите, когда и с чего это у вас началось?» в реальности психотерапевтической ситуации оказывается не только способом получения информации, но и посланием, формирующим психотерапевтические отношения, ожидания и перспективы. Такой вопрос ставит клиента в рефлексивную позицию, задает диагностически-исследовательскую установку и одновременно внушает надежду, что можно будет получить от терапевта какие-то рекомендации, частично снимая ответственность с клиента («сейчас я ему всё расскажу, и он мне скажет, что со мной происходит, как быть, что делать»). Этот вопрос влияет не только на клиента и его отношение к консультанту, но и на самого консультанта.
Способ опроса пациента во многом определяет, как будет квалифицироваться проблемное состояние в терапии. Даже при лечении тяжелых психотических расстройств клинические эксперименты показывают, что терапевтически «выгоднее» описывать неблагополучие пациента не в терминах диагноза, а в терминах проблемы. Специалист по семейной терапии шизофрении пишет: «Для начала лечения намного более соответствующим является не установление диагноза, а формулировка проблемы. Такая формулировка включает в себя и симптомы, и жизненные обстоятельства, показывая, как эти трудности воспринимаются и кем, какие последствия они имеют для всех людей, вовлеченных в проблему, что эти люди думают по поводу того, что они могут или должны сделать» [Wyenne, 1983, р. 25]. Автор ссылается на эксперименты Р. Лонгбауха [Longabaugh, 1979], показавшие, что результаты лечения «проблемы» лучше, чем результаты лечения «диагноза».
Можно говорить о принципе соответствия проблемы и психотерапевтического метода. Однако дело обстоит не натуралистически, так чтобы терапевт с большей или меньшей точностью диагностировал объективно существующую проблему и затем подбирал бы адекватный метод терапии. В рамках психотехнического форматирования проблемы существует определённая степень пластичности у проблемного материала клиента, и этому материалу может быть придана разная форма в зависимости от того, какой метод терапии есть в распоряжении консультанта. Одна и та же проблема или её существенные аспекты могут быть отформатированы как проблема выбора, проблема стресса или межличностного конфликта, если у терапевта есть соответствующие техники. Таким образом, существует взаимная детерминация проблемы и метода: некоторые проблемы требуют формирования соответствующего метода, но и метод может потребовать в реальной психотерапевтической ситуации соответствующего форматирования проблемы.
В ходе первичной проработки проблемы клиента терапевт может предлагать разные категоризации жалоб клиента. Любая жалоба, например, головная боль или заикание, может быть истолкована по-разному, и от этого зависит многое в психотехническом формировании ситуации. Симптом может быть осмыслен как страдание, для чего терапевт должен отразить те ценности и мотивы, которые терпят ущерб от сложившейся ситуации («особенно вы страдаете от того, что это не даёт вам возможности реализовать себя»). Симптом может быть осмыслен как некая способность или умение, например, в технике парадоксальной интенции (В. Франкл). Симптом может быть истолкован также как средство, помеха, сообщение, послание и т.д.
Деятельность терапевта представлена в психотерапии не только его фактическими действиями, но и соответствующими ожиданиями со стороны клиента. Эти ожидания психотехнически значимы независимо от того, собирается ли терапевт их выполнять или нет. Например, если пациентка на первом сеансе просит провести с ней гипноз, чтобы забыть всё, что связывает её с мужем после недавнего развода, то сам такой запрос показывает не только желаемый метод терапии, но и желаемые терапевтические отношения, а также её собственную установку по отношению к проблеме (беспомощность, бегство, желание устранить проблему, а не преодолеть её). Отвечая на такой запрос, терапевт должен учитывать всю целостную ситуацию, а не только поверхностный «заказ» на определённый метод.
Клиент — терапевт: отношения, общение, совместная деятельность
В психотерапевтическом тезаурусе большое место занимают термины, описывающие различные аспекты отношений и общения между пациентом и психотерапевтом: терапевтический контакт и контракт, перенос и контрперенос (с многочисленными производными), раппорт, рабочий альянс, сопротивление, проработка, конфронтация, абстиненция, безусловное принятие и т.д. Можно выделить ряд значимых аспектов этой общей темы.
Типы терапевтических отношений. Например, пациент может проявить тенденцию к установлению персонального, инструментального или идеализирующего отношения к терапевту, что последний обнаруживает не только интеллектуально, но и по соответствующим собственным эмоциональным контрпереносным реакциям (так, в ответ на инструментальное «гашение личности» терапевт ощущает агрессивно-аверсивную реакцию на пациента) [Хайгл-Эверс, 2001, с. 199].
Личностное — объективируемое. Это противопоставление является, пожалуй, самой важной категориальной оппозицией в анализе темы терапевтических отношений. Существуют тенденции объективирующего и персонализирующего отношения к обоим участникам терапевтического взаимодействия. Первая — это попытка мыслить о них как о потенциально сводимых без остатка к психологическим закономерностям, вторая — как о существах, сохраняющих свободу воли, выбора, решения. Вся проблематика трансфера в психоанализе в каком-то смысле обязана своим появлением на свет изначальной научно-объективирующей установке З. Фрейда, на фоне которой чувства пациента к аналитику должны были быть истолкованы как некая мнимость, ошибка адресации, действие того или иного объективного механизма. Перенос, вообще говоря, не первичный факт, а интерпретация факта определенных чувств и реакций клиента по отношению к аналитику. Сама же интерпретация переноса есть не только интеллектуальный акт терапевта, но и его коммуникативно-психотехнический акт, который призван реализовать принцип аналитической нейтральности и принцип абстиненции, вынести саму личность терапевта за скобки, убедить пациента, что все его проявления объяснимы только из действия внутренних механизмов его психики.
Противоположная тенденция характерна для экзистенциальной терапии и человеко-центрированного подхода. Не случайно К. Роджерс настаивал на том, что в его психотерапии отношения переноса если и возникают, то не имеют тенденции к развитию и не становятся центральными [Роджерс, 2002]. «Сходство позиции К. Роджерса с лакановским анализом, — пишет В.Н. Цапкин, — в том, что он, в отличие от многих американских психоаналитиков, не интерпретировал перенос как неадекватное искаженное восприятие отношений, а принимал его как аспект актуальных переживаний клиента» [Цапкин, 2008].
Естественность — намеренность. Терапевтические отношения не только спонтанно складываются, но и произвольно формируются обоими участниками терапевтического процесса. А.И. Сосланд [Сосланд, 1999, с. 21], обсуждая этот срез построения терапевтических отношений, напоминает о прямой задаче первого этапа психоаналитической терапии, которую формулировал З. Фрейд: «привязать больного к лечению и к личности врача» [Фрейд, 1991, с. 92].
Сознательность — бессознательность. Эта оппозиция не совпадает с предыдущей. Манипулятивные маневры пациента могут быть весьма активными, намеренными и в то же время бессознательными.
Иерархичность — равенство. В известном диалоге К. Роджерса и М. Бубера [Мартин Бубер…, 1994] последний доказывал своему оппоненту, что отношения терапевта и клиента в принципе не могут быть равными из-за объективной асимметричности их позиций в реальной терапевтической ситуации [см. Василюк, 1994]. А.И. Сосланд [Сосланд, 1999, с. 218] указывает на историческую тенденцию от иерархичности к квазиэгалитарности терапевтических отношений.
Ролевое описание отношений. Для характеристики терапевтических отношений часто используется их ролевое описание (учитель — ученик, начальник — подчиненный, родитель — ребенок и т.д.).
Жанры. К ролевой характеристике терапевтических отношений примыкает их жанровый анализ.
Важными для анализа поля терапевтических отношений представляются также такие темы, как динамика отношений, проблемы конфронтации, позиции вовлеченности и вненаходимости консультанта [см. Копьев, 1992, 2004; Воробьева, 2007], эстетическая диалектика автор — герой применительно к анализу речи клиента, стиль общения консультанта.
Таково беглое перечисление основных аспектов анализа категории терапевтических отношений. При всем богатстве проработки этой темы в психотерапевтической литературе, общепсихологическая систематизация данного элемента структуры психотерапевтической ситуации остается настоящей проблемой. На наш взгляд, многообещающую теоретическую перспективу открывает анализ отношений клиент-терапевт с помощью общепсихологических понятий общения, отношения, совместной деятельности, разработанных в отечественной психологической традиции [Мишина, 2009].
Психотерапевтическое время
Задача систематического описания психотерапевтической эмпирии состоит из двух взаимосвязанных частей — характеристики пространства и характеристики времени психотерапии. Первая из них предполагает синхронистический анализ психотерапевтической ситуации, а вторая — диахронический анализ терапевтического процесса [Wolberg, 1966; Malan, 1979; Corey, 2000; Bugental, 1987 и др.].
Проблема психотерапевтического времени в данной работе прямо не ставится, однако синхрония и диахрония психотерапии настолько переплетены друг с другом, что, анализируя организацию психотерапевтического пространства, неизбежно приходится затрагивать различные темы, развернутый анализ которых требует подробной разработки категории психотерапевтического времени. Укажем здесь лишь на некоторые аспекты и разновидности этой категории.
Социальное время психотерапии. Это время психотерапевтического контракта. В нем есть формальный аспект — частота и длительность сеансов, продолжительность всего курса психотерапии и т.п. Существенные события в этой плоскости, подлежащие истолкованию в психотерапии, — опоздания, пропуски и попытки затягивания сеансов, отпуска и каникулы и пр. Формальный аспект социального времени прямо связан с содержательным. Скажем, частота сеансов — принципиальный момент психоаналитического ритуала, определяющий, может ли процесс претендовать на звание «психоанализа» или должен довольствоваться наименованием «психоаналитической психотерапии» (при частоте менее 4—5 сессий в неделю). А такой темпоральный параметр, как длительность курса психотерапии, прямо коррелирует с оценкой «серьезности» и «глубины» проблем клиента.
Феноменологическое время психотерапии. Это всё многообразие сочетаний хронотопов «здесь-и-теперь» и «там-и-тогда», в которых в психотерапевтической беседе описываются жизненные события клиента. Искусство психотерапевтических переходов между этими хронотопами и выстраивание сложных узоров, композиционно объединяющих разные «театры действий», смена направления движения повествовательного времени (например, времени воспоминания и времени вспоминаемого, будущего в прошедшем или, наоборот, рассмотрения тягостного настоящего из предполагаемого «хорошего» будущего) сближают психотерапию с искусством, а время психотерапии с художественным временем [Роднянская, 1987].
Биографическое время. Оно связано с феноменологическим, но не совпадает с ним. Если в феноменологическом времени пациент выступает скорее как соавтор психотерапевтических сочинений или исполнитель ролей, а само феноменологическое время является скорее «поэтическим», то биографическое — «историческим» (в смысле аристотелевого противопоставления поэзии и истории [Аристотель, 1984]). Для биографического времени в психотерапевтическом мышлении характерна историко-натуралистическая установка. Биографическое время тесно пересекается, хотя и не тождественно, с возрастным временем, рассматривающим жизнь как закономерную череду этапов, переход между которыми сопряжен с кризисами, новыми личностными задачами и новообразованиями (Э. Эриксон, Д.Б. Эльконин). В разных психотерапевтических школах делаются методологические акценты на разные возраста. Например, в классическом психоанализе решающее значение в детерминации психопатологии отдается младенчеству и раннему детству, что во многом определяет психотерапевтическую теорию и технику.
Процессуальное психотерапевтическое время. Оно описывает психотерапию как разворачивающийся процесс, состоящий из ряда фаз, каждая из которых отличается своими особенностями терапевтических отношений, актуальными задачами, специфическими событиями и чувствами. Например, в первой фазе психотерапии устанавливается контакт, формируется психотерапевтическое доверие, складывается «рабочий альянс», а на последней фазе участники терапевтического процесса встречаются с такими характерными чувствами, как тревога отделения или предвосхищающая печаль разлуки.
Профессионально-деятельностное психотерапевтическое время. Это аспект терапевтического времени, возникающий в контексте профессиональной деятельности психотерапевта. В этом контексте время терапии определяется в терминах стратегических и тактических целей и подчиненных им оперативных задач. Прогноз на будущее, оценка промежуточных и конечных результатов терапии — всё это термины из лексикона профессионально-деятельностного времени, которое с дискурсивной точки зрения определяется характерной фигурой Другого — супервизора, не важно, реального, воображаемого или интериоризированного.
Время преобразования описывает динамику событий, которые происходят с главной проблемой. Например, если проблема понимается как «болезнь», то «содержательно-временной ряд» [Бахтин, 1979], ритмизирующий психотерапию, осмысляется как цепочка событий: «здоровье — вредность — заболевание — его манифестация — развитие болезни — течение — обращение за помощью — лечение — выздоровление — реабилитация». В понимающей психотерапии [Василюк, 2008] основной содержательно-временной ряд может быть описан таким образом: «обычное состояние — критическая ситуация — переживание — неудача переживания — обращение за помощью — продуктивное переживание — обретение осмысленности». Время преобразования зависит от основного «психотерапевтического мифа» и само участвует в его формировании.
Время логическое — понятие, введенное Ж. Лаканом в сороковые годы [см. Lacan, 2006, p. 161—175], которое отличается от времени физического, измеряемого часами. Это время подразумевает три основных такта: время видения, время понимания и время заключения. «Представление о значимости логического времени в аналитическом процессе позволило Ж. Лакану разработать такие понятия, как пунктуация сессии и скандирование, что в свою очередь легло в основу практики сессий с вариабельной длительностью — окончание сессии определяется логическим временем конкретной сессии, а не обсессивно установленной членами IPA длительностью в 50 минут» [Цапкин, 2008].
Разработка категории психотерапевтического времени является одной из самых актуальных проблем общей теории психотерапии.
За пределами данной статьи осталась категория «проблема» как один из элементов структуры терапевтической ситуации. Осталась вовсе не потому, что мы считаем ее не очень значимой. Слово «проблема» одно из самых распространенных в психотерапевтической лексике, однако категория проблемы, о большом значении которой эта частота свидетельствует, совершенно недостаточно проработана в психотерапевтической литературе. Именно поэтому мы намерены посвятить ей отдельную теоретическую работу.
Для развития психотерапии очень характерны центробежные тенденции, разработка самостоятельных психотерапевтических школ, не вступающих порой не только в научную кооперацию, но даже в открытое научное соперничество. Именно поэтому актуальными являются «центростремительные» инициативы, поиски общего языка или метаязыка, общей теории и «картографии» психотерапии [Сосланд, 1999; Соколова, 2001; Цапкин, 2008; Психотерапия…, 1999].
К ряду этих попыток относится и представленная в данной статье «модель хронотопа психотерапии». Разумеется, это пока теоретический эскиз, нуждающийся в подробной теоретической и экспериментальной разработке. Отличительная особенность модели — в том, что общепсихотерапевтический вопрос решается здесь не с абстрактных позиций, а ставится на конкретную общепсихологическую почву, а именно — структура терапевтической ситуации задается с помощью системы психологических категорий деятельности, общения, отношений, установки, совместной деятельности, получивших фундаментальную теоретическую разработку в отечественной общепсихологической традиции.
Методологическая значимость модели, таким образом, заключается в «психотехническом синтезе», где общепсихологическая теория предоставляет свои концептуальные средства психотерапии, а сама при этом получает плодородное поле для эмпирических исследований.
ЛИТЕРАТУРА
Аристотель. Поэтика. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984.
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. Россия, 1979.
Блазер А. Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход. М.: Класс, 1998.
Василюк Ф.Е. К проблеме единства общей психологии // Вопросы философии. 1986. № 10. С. 76-86.
Василюк Ф.Е. Историко-методологический анализ психотерапевтических упований // Московский психотерапевтический журнал. 2007. Юбилейный выпуск, 1992-2007. С. 44-70.
Василюк Ф.Е. Структура и специфика теории понимающей психотерапии // Московский психотерапевтический журнал. 2008. № 1. С. 5-35.
Воробьева Л.И. Интеграция психотерапии — возможно ли это? / Гуманитарные исследования в психотерапии: труды по психотерапии и психологическому консультированию. М.: ПИ РАО; МГППУ, 2007. Вып. 1. С. 73-101.
Делёз Ж. Логика смысла. М.: Изд. центр «Академия», 1995.
Джендлин Ю. Фокусирование: новый психотерапевтический метод работы с переживаниями. М.: Класс, 2000.
Копьев А.Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы психологической клиники // Московский психотерапевтический журнал. 1992. № 1. С. 33-49.
Копьев А.Ф. Психологическое консультирование: опыт диалогической интерпретации // Психологическое консультирование и психотерапия: сб. статей. М.: ООО «Вопросы психологии», 2004. С. 5-14.
Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический Проект, 2000.
Мартин Бубер — Карл Роджерс: диалог // Московский психотерапевтический журнал. 1994. № 4. С. 67-94.
Минделл Э. Психотерапия как духовная практика. М.: Класс, 1997.
Мишина Е.В. Формирование феномена совместности в дебюте психотерапевтического процесса // Понимающая психотерапия: теория, методология, исследования. М.: МГППУ, 2009.
Психоаналитические термины и понятия: словарь / Под ред. Б.Э. Мура, Б.Д. Файна. М.: Класс, 2000. 304 с.
Психотерапия: новая наука о человеке / Ред.-сост. А. Притц. Екатеринбург: Деловая книга; М.: Академический Проект, 1999.
Рейнуотер Д. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом. М.: Прогресс, 1992. 240 с.
Роджерс К. Клиентоцентрированный / человекоцентрированный подход в психотерапии // Вопросы психологии, 2001. № 2. С. 48-58.
Роджерс К. Искусство консультирования и терапии. М.: Апрель-Пресс; Эксмо, 2002.
Роднянская И.Б. Художественное время и художественное пространство // Литературный энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 487-489.
Соколова Е.Т. Общая психотерапия. М.: Тривола, 2001.
Сосланд А.И. Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или Как создать свою школу в психотерапии. М.: Логос, 1999.
Фрейд З. Психоаналитические этюды. Минск: Беларусь, 1991.
Хайгл-Эверс А. Базисное руководство по психотерапии. СПб.: Вост.-Европ. ин-т психоан.; Речь, 2001.
Цапкин В.Н. К новой картографии психотерапевтического поля // МПЖ. 2008. № 1. С. 36-59.
Шеховцова Л.Ф. Теоретические и практические аспекты психологического консультирования: учеб. пос. СПб.: Изд-во СПб. ун-та пед. мастерства, 1996.
Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс; Универс, 1993.
Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997.
Bugental J. 1987. The Art of the Psychotherapist. N.Y.; L.: W.W. Norton & Company.
Corey G. 2000. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
Fink B. 1995. The Lacanian Subject: Between Language and Joissance. Princeton: Princeton University Press.
Lacan J. 2006. Logical Time and the Assertion of Anticipated Certainty // Ecrits: The First Complete Edition in English. N.Y.: W.W. Norton & Company. P. 161-175.
Longabaugh R. 1979. Effects of Joint Hospital Admission and Couples Treatment for Hospitalized Alcoholics: A Pilot Study. Addictive Behaviors. № 4. P. 155-165.
Malan D.H. 1979. Individual Psychotherapy and the Science of Psychodynamics. L.: Butterworths.
Wolberg L.R. 1977. The Technique of Psychotherapy. N.Y.: Grune & Stratton.
Wyenne L.C. 1983. A Phase-Oriented Approach to Treatment with Schizophrenics and Their Families // Family Therapy in Schizophrenia. N.Y., P. 251-265.
Chronotopic Model of Psychotherapy F.E. Vasilyuk
The author proposes ideas about the "chronotope" of psychotherapy, including the "structure of a psychotherapeutic situation" as a spatial measurement, and the "time of therapeutic process" as a temporal dimension. To construct a model of the chronotope of psychotherapy, the scheme of the "integrated psychological unit of the vital world" is used, which was developed as a result of theoretico-methodological synthesis of the basic psychological categories in Russian psychology: activity, relation, attitude, and dialogue.
The proposed model systematizes representations of basic psychotherapeutic categories (such as client, psychotherapist, problem, therapeutic relations, contact, contract, etc.) and their correlations. The model of the psychotherapy chronotope can be used for empirical research on psychotherapeutic processes.
Key-words: chronotope of psychotherapy, structure of a psychotherapeutic situation, psychotherapeutic time, client, therapist, problem, therapeutic relations.
References:
Aristotel’. Pojetika. Soch.: V 4 t. T. 4. M.: Mysl’, 1984.
Bahtin M.M. Problemy pojetiki Dostoevskogo. M.: Sov. Rossija, 1979.
Blazer A. Problemno-orientirovannaja psihoterapija. Integrativnyj podhod. M.: Klass, 1998.
Vasiljuk F.E. K probleme edinstva obwej psihologii // Voprosy filosofii. 1986. № 10. S. 76-86.
Vasiljuk F.E. Istoriko-metodologicheskij analiz psihoterapevticheskih upovanij // Moskovskij psihoterapevticheskij zhurnal. 2007. Jubilejnyj vypusk, 1992-2007. S. 44-70.
Vasiljuk F.E. Struktura i specifika teorii ponimajuwej psihoterapii // Moskovskij psihoterapevticheskij zhurnal. 2008. № 1. S. 5-35.
Vorob’eva L.I. Integracija psihoterapii — vozmozhno li jeto? // Gumanitarnye issledovanija v psihoterapii: trudy po psihoterapii i psihologicheskomu konsul’tirovaniju. M.: PI RAO; MGPPU, 2007. Vyp. 1. S. 73-101.
Deljoz Zh. Logika smysla. M.: Izd. centr "Akademija", 1995.
Dzhendlin Ju. Fokusirovanie: novyj psihoterapevticheskij metod raboty s perezhivanijami. M.: Klass, 2000.
Kop’ev A.F. Dialogicheskij podhod v konsul’tirovanii i voprosy psihologicheskoj kliniki // Moskovskij psihoterapevticheskij zhurnal. 1992. № 1. S. 33-49.
Kop’ev A.F. Psihologicheskoe konsul’tirovanie: opyt dialogicheskoj interpretacii // Psihologicheskoe konsul’tirovanie i psihoterapija: sb. statej. M.: OOO "Voprosy psihologii", 2004. S. 5-14.
Kochjunas R. Osnovy psihologicheskogo konsul’tirovanija. M.: Akademicheskij Proekt, 2000.
Martin Buber — Karl Rodzhers: dialog // Moskovskij psihoterapevticheskij zhurnal. 1994. № 4. S. 67-94.
Mindell Je. Psihoterapija kak duhovnaja praktika. M.: Klass, 1997.
Mishina E.V. Formirovanie fenomena sovmestnosti v debjute psihoterapevticheskogo processa // Ponimajuwaja psihoterapija: teorija, metodologija, issledovanija. M.: MGPPU, 2009.
Psihoanaliticheskie terminy i ponjatija: slovar’ / pod red. B.Je. Mura, B.D. Fajna. M.: Klass, 2000. 304 s.
Psihoterapija: novaja nauka o cheloveke / red.-sost. A. Pritc. Ekaterinburg: Delovaja kniga; M.: Akademicheskij Proekt, 1999.
Rejnuoter D. Jeto v vashih silah. Kak stat’ sobstvennym psihoterapevtom. M.: Progress, 1992. 240 s.
Rodzhers K. Klientocentrirovannyj / chelovekocentrirovannyj podhod v psihoterapii // Voprosy psihologii. 2001. № 2. S. 48-58.
Rodzhers K. Iskusstvo konsul’tirovanija i terapii. M.: Aprel’-Press; Jeksmo, 2002.
Rodnjanskaja I.B. Hudozhestvennoe vremja i hudozhestvennoe prostranstvo // Literaturnyj jenciklopedicheskij slovar’. M.: Sov. jenciklopedija, 1987. S. 487-489.
Sokolova E.T. Obwaja psihoterapija. M.: Trivola, 2001.
Sosland A.I. Fundamental’naja struktura psihoterapevticheskogo metoda, ili Kak sozdat’ svoju shkolu v psihoterapii. M.: Logos, 1999.
Frejd Z. Psihoanaliticheskie jetjudy. Minsk: Belarus’, 1991.
Hajgl-Jevers A. Bazisnoe rukovodstvo po psihoterapii. SPb.: Vost.-Evrop. in-t psihoan.; Rech’, 2001.
Capkin V.N. K novoj kartografii psihoterapevticheskogo polja // MPZh. 2008. № 1. S. 36-59.
Shehovcova L.F. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty psihologicheskogo konsul’tirovanija: ucheb. pos. SPb.: Izd-vo SPb. un-ta ped. masterstva, 1996.
Jung K.G. Problemy dushi nashego vremeni. M.: Progress, Univers, 1993.
Jaspers K. Obwaja psihopatologija. M.: Praktika, 1997.
Bugental J. The Art of the Psychotherapist. N.Y.; L.: W.W. Norton & Company, 1987.
Corey G. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 2000.
Fink B. The Lacanian Subject: Between Language and Joissance. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Lacan J. Logical Time and the Assertion of Anticipated Certainty // Ecrits: The First Complete Edition in English. N.Y.: W.W. Norton & Company, 2006. P. 161-175.
Longabaugh R. Effects of Joint Hospital Admission and Couples Treatment for Hospitalized Alcoholics: A Pilot Study. Addictive Behaviors. 1979. № 4. P. 155-165.
Malan D.H. Individual Psychotherapy and the Science of Psychodynamics. L.: Butterworths, 1979.
Wolberg L.R. The Technique of Psychotherapy. N.Y.: Grune & Stratton, 1977.
Wyenne L.C. A Phase-Oriented Approach to Treatment with Schizophrenics and Their Families // Family Therapy in Schizophrenia. N.Y., 1983. P. 251-265.