Структура и специфика теории понимающей психотерапии
Ф.Е. Василюк*В статье1 рассматриваются основные структурные элементы теории понимающей психотерапии — высшая цель и ценность, онтология и предмет, проблемное состояние, продуктивный процесс, принципы деятельности профессионала. Намечается компаративное исследование — сравнение по данным параметрам понимающей психотерапии с другими психотерапевтическими подходами.
________________
*Василюк Федор Ефимович — декан факультета психологического консультирования МГППУ, председатель редакционного совета МПЖ.
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 07-06-00477а.
________________
Психотехническая система понимающей психотерапии выстраивается в нескольких планах — методологическом, общепсихологическом, плане психотерапевтической теории, техники и дидактики (Василюк, 2007а). Предмет данной статьи — центральное звено психотехнической системы: психотерапевтическая теория, ее структура и специфика. Такой статус психотерапевтической теории требует, чтобы она сопрягала три блока системы — общепсихологический, технологический и дидактический. В отношениях с методологическим и общепсихологическим блоками ее обязательства состоят в том, чтобы развитые в них общие идеи воплотить в конструкции терапевтической теории как теории специфической практики психологической помощи. В отношениях с блоком технологическим она должна доводить указанные конструкции до такого уровня конкретности, чтобы они были готовы к конвертации в психотерапевтическую технику. Далее, психотерапевтическая теория должна обеспечить возможность и обратного обогащающего движения исследовательской мысли от психотерапевтической технологии и эмпирии к общепсихологической теории. В отношениях с блоком психотерапевтической дидактики теория должна быть не просто приспособленной для трансляции, но и оставаться открытой для трансформации, так чтобы сам образовательный процесс, превращаясь то в живую практику, то в психотехнический эксперимент, имел бы «код доступа» к внесению инноваций в исходную теорию.
Кроме того, искомая теория должна быть построена так, чтобы быть сопоставимой с другими существующими психотерапевтическими концепциями. Таковы непростые методологические требования к психотерапевтической теории в рамках психотехнической системы. Вполне понятно, что отдельному исследованию не под силу решить задачу построения подобной теории во всей полноте и конкретике. Цель данной статьи ограничивается прорисовкой общих контуров структуры психотерапевтической теории и характеристикой специфики элементов этой структуры.
В 1985 г. на знаменитой конференции «Эволюция психотерапии» перед ведущими представителями основных психотерапевтических школ2 был поставлен вопрос «Что такое психотерапия?». Несмотря на все старания участников, единое определение так и не было выработа-но, что побудило организатора конференции развернуть еще один масштабный проект под названием «Психотерапия — что это?» (Зейг, 2000). Упорство Дж. Зейга можно понять: без сознательного ответа на этот вопрос специалист не может решить ни одной из жизненно важных профессиональных проблем, будь то проблема границ профессиональной компетенции и зоны ответственности, проблема определения целей и оценки эффективности психотерапии или проблема профессиональной идентичности. В то же время попытка дать общее определение психотерапии, по-видимому, обречена на неудачу (Corsini, 1984; Цапкин, 1992). Причина этого логического тупика, на наш взгляд, лежит в неадекватной, натуралистической постановке вопроса. Психотерапия же
не есть натуральная сущность, определенная в себе и потому могущая быть однозначно определенной извне. Дефиниция психотерапии существенно зависит от философских позиций, в частности, от антропологических воззрений, от социокультурного понимания места психотерапии в культуре (Аграчев, 1996; Пузырей, 2005; Копьев, 2007; Василюк, 2007), от того, какая платформа полагается главным ее основанием (психология, клиническая медицина, искусство, философия или религия)3, от теоретических позиций, занимаемых в пределах каждой из этих платформ, от практических задач, которые считаются главным делом психотерапии.
________________
2 Список участников говорит сам за себя: «Аарон Бек, Бруно Беттельгейм, Мюррей Боуэн, Альберт Эллис, Мэри Гулдинг, Роберт Гулдинг, Джей Хейли, Р.Д. Лэйнг, Арнольд Лазарус, Клу Маданес, Джудд Мармор, Джеймс Мастерсон, Ролло Мэй, Сальвадор Минухин, Зерка Морено, Ирвин Польстер, Мириам Польстер, Карл Роджерс, Эрнест Росси, Вирджиния Сатир, Томас Зац, Пол Вацлавик, Карл Витакер, Льюис Волберг, Джозеф Вольпе, Джеффри Зейг»
(Зейг, 2000, с. 9).
3В.Л. Леви, например, будучи врачом, по базовому образованию, реализует в своем творчестве психотерапию как род искусства (Леви, 2007). Существует достаточно развитая практика пастырского консультирования и психотерапии (Bergin, 1980; Cobb, 1991; McMinn, 2001; Влахос, 2004; Колпакова, в печати).
________________
В конечном счете, риск и ответственность за определение психотерапии должен взять на себя всякий сознательно действующий профессионал, ибо это определение тесно связано не только с разделяемыми им общетеоретическими взглядами, но и личными интуициями и персональными аксиологическими выборами. Определение психотерапии есть самоопределение психотерапевта. А это дело отнюдь не одной лишь логики и теории.
Поэтому теоретическая задача общей дефиниции психотерапии может быть заменена метазадачей выявления параметров специфики психотерапии: стоит искать не общий ответ на вопрос «что такое психотерапия?», а общую систему вопросов, на которые надлежит ответить каждому психо-терапевтическому подходу, претендующему на специфическую научную и культурную позицию.
Введение структуры сопоставления
Специфика любого явления задается сопоставлением его со смежными, родственными ему явлениями. Особенности того или иного психотерапевтического подхода могут быть описаны с помощью двух систем со- и противопоставлений: во-первых, в сравнении с существующими в культуре социально-антропологическими практиками, во-вторых, в сравнении с другими существующими психотерапевтически-ми подходами. Для определения специфики понимающей психотерапии в пределах данной работы мы воспользуемся преимущественно первой системой оппозиций, откладывая на дальнейшее важную задачу «психотерапевтической компаративистики» (Цапкин, 2004), т.е. систематического сопоставления понимающей психотерапии с существующими психотерапевтическими теориями.
Деятельность психолога-психотерапевта уместно сопоставить с деятельностью субъектов смежных антропологических практик: врача, учителя, воспитателя, философа4, священника.
________________
4В данном случае имеется в виду не академическая фигура, а присутствующая в разных культурных матрицах под разными обличьями фигура мудреца-наставника.
________________
В отличие от ценностей и целей этих антропологических практик (здоровья, знания, воспитанности, мудрости, святости) понимающая психотерапия, в соответствии с базовой теорией переживания, имеет специфическую ценность и цель — осмысленность.
В отличие от предметов других практик, т.е. от тех плоскостей человеческого существования, к которым они апеллируют и на которые направляют свои воздействия (организм, способности, социальное поведение, мировоззрение, духовность), понимающая психотерапия обращена к жизненному миру человека.
В отличие от тех процессов и действий самого человека, которые ожидаются от него в рамках этих практик и которые осуществляют, собственно, требуемые изменения (процессы компенсации и восстановления функций организма, социализации и самовоспитания, познания и любомудрия, аскезы и исповедания), понимающая психотерапия ждет от чело-века активного продуктивного переживания, которое рассматривается как процесс смыслопорождения.
В отличие от проблемных состояний человеческого существова-ния, на преодоление которых направлены эти антропологические практики (болезнь, невежество, невоспитанность, ложное сознание, грех), понимающая психотерапия нацелена на помощь человеку в совладании с критическими жизненными ситуациями.
Наконец, в отличие от специфических действий агентов антропологических практик (лечение, обучение, воспитание, ценностное наставничество, духовное руководство), в каждой из которых разрабатываются особые методы деятельности, специфическая активность психотерапевта в рамках понимающей психотерапии может быть названа«сопереживанием». Общим методом работы сопереживания является понимание.
Представим для наглядности результаты этого сопоставления в виде таблицы 1.
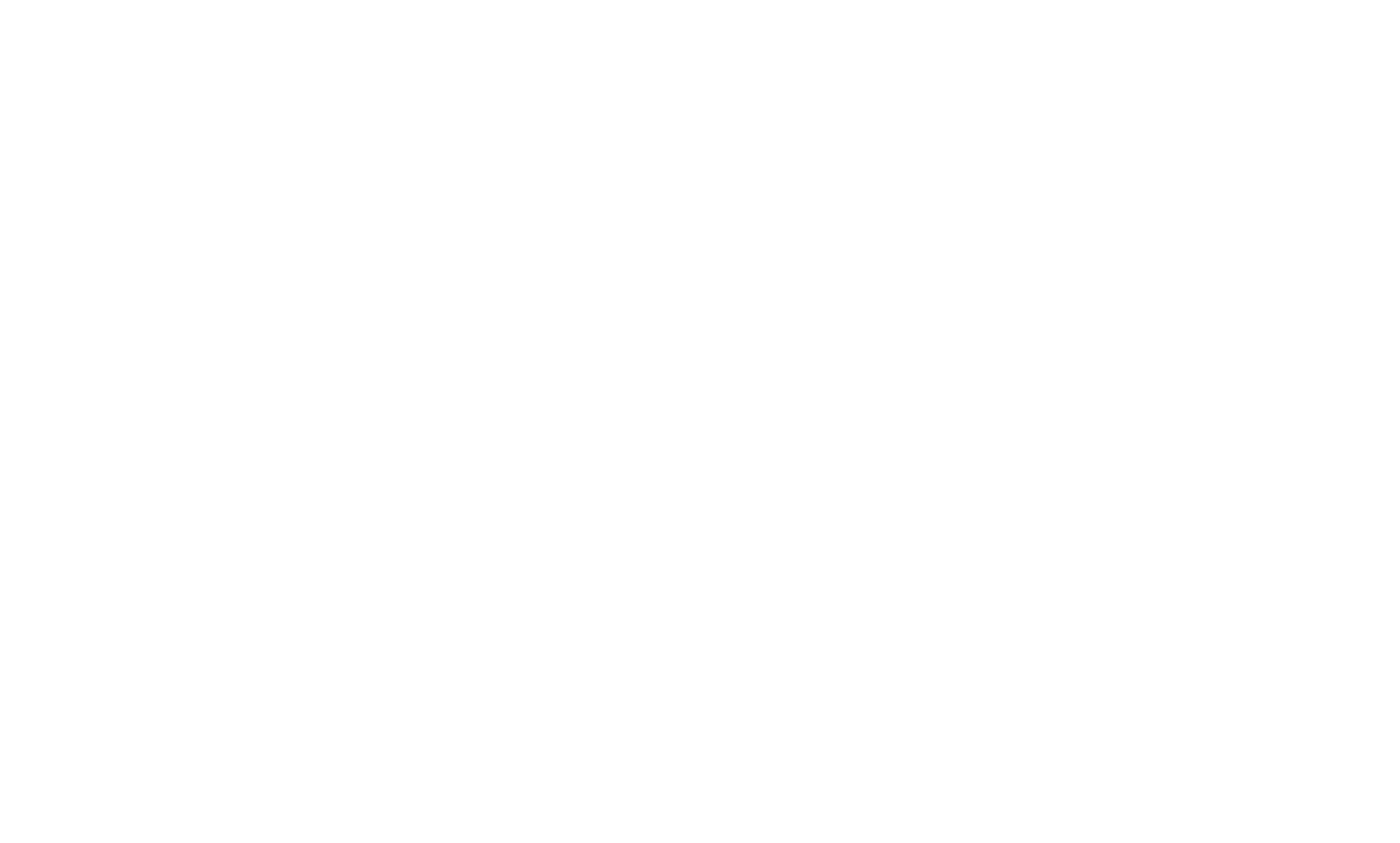
Высшая цель и ценность
Первый вопрос, который задает специфику всякой культурно-антропологической практики, — это вопрос о ее высшей цели и ценности. Речь именно о высшей цели, поскольку аксиология всякой развитой практики представляет собой сложную многоуровневую систему. Вершиной аксиологической системы медицины является категория здоровья, для педагогики это — знание, для юриспруденции — справедливость.
Что касается психотерапии, вполне понятно удивление, с которым К. Паттерсон (1995) констатирует, как мало фундаментальных работ посвящено обсуждению целей психотерапии, особенно на фоне несметного количества публикаций, обсуждающих ее методы и техники. М. Парлофф (1967) ввел продуктивное различение конечных и промежуточных целей психотерапии, к которым К. Паттерсон добавил третью категорию — непосредственных целей. В контексте данного параграфа нас интересует только первое из этих понятий. Конечной целью психотерапии автор называет представление о том, каким человеком должен был бы в пределе стать пациент в результате психотерапии (Patterson, 1995). А.И. Сосланд (1999) вводит аналогичное (с точки зрения его функции и места в структуре психотерапевтической теории) понятие «идеала» и различает негативные и позитивные идеалы. «Терапия с негативным идеалом ставит своей целью исключительно освобождение пациента от симптома-комплекса-жалобы-проблемы, т.е. здесь идеал —простое отсутствие "зла", исчезновение патологии или существенное ее облегчение. Позитивный идеал, напротив, предполагает, что терапевтическая цель состоит в создании неких свойств у пациента» (там же, с. 190—191).
Существующие психотерапевтические подходы по-разному отвечают на вопрос о высшей, или конечной, цели психотерапии. Хотя в каждом из них нет полного единомыслия, тем не менее, возможно выделение целевой доминанты всякого психотерапевтического подхода: для бихевиоральной психотерапии, например, это адаптированность поведения человека, для психоанализа — целостность его сознания, для гештальттерапии — «зрелость» личности (Perls, 1969, р. 27—43) и т.д.
Понимающая психотерапия, в соответствии с базовой теорией переживания, в качестве своей высшей цели полагает категорию смысла. Поскольку «смысл» — понятие крайне многозначное (см. Леонтьев, 1999), необходимо отчитаться, в каком значении оно используется в предлагаемой теории.
В концепции сознания, развитой в психологической теории деятельности (Леонтьев, 1975), категория смысла определяется, прежде всего, двумя оппозициями: 1) смысл — значение и 2) смысл — эмоция. Первая из них является производной от фундаментальной оппозиции знания и отношения (Рубинштейн, 1989; Леонтьев, 1975). По известной формуле С.Л. Рубинштейна, сознание есть не только знание, но и отношение. Если конкретизировать эту формулу, поставив вопрос о психологических единицах исследования сознания, то раскрывается внутренняя логика противопоставления «значение — смысл»: как значение — единица знания о реальности, так смысл — единица отношения к ней. Первая версия категории смысла, таким образом, выражает жизненно-заинтересованное отношение индивида к тому или иному событию бытия.
Эта версия абстрагируется от конкретной формы представленности смысла в сознании. Второе противопоставление — смысла и эмоции — как раз дифференцирует две такие конкретные формы: эмоция есть непосредственное выражение отношения человека к тем или иным событиям и ситуациям, а смысл — образование сознания, опосредствованное внутренней работой по пониманию своей экзистенциальной ситуации, результат решения особой внутренней задачи, которую А.Н. Леонтьев (1975) так и назвал «задачей на смысл». Чаще всего эта задача решается на материале эмоции, когда человеку нужно осознать свое личностное отношение, уже данное ему в виде непосредственного эмоционального переживания, и потому можно сказать, что смысл — это эмоция с-мыслью, эмоция, просветленная мыслью5. Такова вторая версия понятия «смысл».
________________
5Однако это не единственная возможность. Постижение смысла может опираться не на эмоцию, а на интуицию, целостное интуитивное схватывание жизненной ситуации.
________________
Однако обе названные версии категории «смысл» не могут считать-ся высшей целью психотерапии, поскольку не несут в себе заведомо позитивных коннотаций. Для поиска необходимого варианта понятия следует обратиться не к теории сознания, а к теории мотивации, развитой А.Н. Леонтьевым. Он различает побуждающие и смыслообразующие мотивы (Леонтьев, 1972). Когда деятельность субъекта и ход событий развертываются в направлении реализации смыслообразующих мотивов, тогда ситуация становится для человека осмысленной, имеющей смысл.Понятно, что речь идет здесь не о всяком, а о позитивном смысле, который воодушевляет, вдохновляет, которым можно жить. Это третье значение понятия «смысл», и оно задается совсем другой оппозицией: бессмысленность (смысловая обедненность, смыслоутрата) — осмысленность (смысловая обогащенность, наполненность). Именно эта ипостась категории «смысл» и выражает высшую цель и ценность понимающей психотерапии.
В проведенном рассуждении мы стремились вывести искомую версию понятия «смысл» непосредственно из психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева, руководствуясь соображениями «методологической экономии»: чем более широкий круг явлений можно описать средствами одной теории (попутно развивая их, если понадобится), тем больше можно рассчитывать на теоретическую непротиворечивость описания. Можно было, конечно, заимствовать искомое понятие смыс-ла из психологии человеческого бытия С.Л. Рубинштейна, и это был бы тоже вполне оправданный теоретический ход, учитывая внутреннее родство этих теорий, входящих согласно выдвинутой нами (Василюк, 1986) историко-методологической гипотезе в единую теоретико-методологическую систему. Можно было обратиться к теории смысла, разработанной В. Франклом (о «перекличке» в понимании смыла жизни у С.Л. Рубинштейна и В. Франкла см. (Знаков, 2007, с. 362)). В философской антропологии, персонологии, религиозной философии есть немало блестящих разработок этой категории. И все же мы сочли за лучшее ограничиться одной избранной школой, особенно с учетом то-
го, какое глубокое развитие получила категория смысла у учеников и последователей А.Н. Леонтьева (Асмолов и др., 1979; Братусъ, 1981; Стеценко, 2005 и др.), в особенности у Д.А. Леонтьева (2007).
Для психотерапевтической теории естественно стремление к такому уровню конкретизации общепсихологических понятий, который позволяет распознавать описываемую этими понятиями реальность в эмпи-рии клинических случаев. Поэтому следует поставить вопрос о том, какова конкретная феноменология позитивного смысла. Ярче всего эта феноменология высвечивается в ситуации обретения смысла, когда после периода смысловой опустошенности человеку открывается новый смысл. Психологическое состояние в подобной ситуации характеризуется целым ансамблем признаков. Не все они обязательно вступают в игру одновременно, но все являются различными аспектами переживания смысла.
Человек а) ощущает общую приподнятость, повышение жизненной энергии, радостное «играние» в нем жизни, витальности как таковой; б) кроме нового самоощущения ему дается в такие минуты и новое мироощущение, общее чувство объективной правды, красоты, благости, разумности всего бытия, просвечивающей в каждой мелочи даже сквозь боль, зло, уродство и поврежденность мира6; свет правды обнимает и его личную жизнь, вызывая чувство оправданности прожитой жизни; в) тот же свет проливается и на предстоящие жизненные действия, давая ощущение ясности пути. Появляются осмысленные, зовущие, значимые цели и задачи, открывается перспектива жизнедеятельности, человек чувствует вдохновение и ощущает в себе силы на исполнение этих задач. Эта позитивная феноменология осмысленности может быть для наглядности схематизирована с помощью евангельской триады категорий Жизнь — Истина — Путь (Ин 14:6) (рис. 1).
__________________
6 «О Господи, как совершенны / Дела твои, думал больной, / Постели, и люди, и стены, / Ночь смерти и город ночной» (Б. Пастернак).
__________________
Смысл в своей позитивной осуществленности уже перестает быть «смыслом» как только ментальной реальностью, а становится жизнью — истиной — путем. Поражение, раненность экзистенции в любом члене этой триады опознается в сознании как смыслоутрата. К феноменоло-гии критической ситуации как ситуации смыслоутраты мы обратимся ниже, в разделе «Проблемное состояние».

Каждая социо-культурная сфера строит свой образ человека и выделяет определенное измерение человеческого бытия в качестве базовой онтологической картины, которая кладется в основание конкретных теорий и служит для формирования предметов соответствующих практик. Образ человека в современной медицине представлен категорией организма; для юриспруденции человек — гражданин, субъект права. Разумеется, особые миры культурно-антропологических практик не являются абсолютно непроницаемыми друг для друга. Для врача может быть значим юридический статус пациента. Например, если пациент — заключенный, врач должен будет учесть особенности питания, двигательного режима и прочие характеристики образа жизни, вытекающие из этого юридического статуса. Однако они будут учитываться в их проекции на медицинскую плоскость, как факты медицинские, т.е. с точки зрения их влияния на организм. Равным образом, для судебной системы состояние здоровья обвиняемого также может иметь большое значение. Здоров ли он или болен, каков диагноз заболевания, какова степень и структура нарушений, — все эти, казалось бы, чисто клинические реалии могут оказаться существенными для решения юридических вопросов о дееспособности, вменяемости, о мерах пресечения и т.д. (Коченов, 1980; Сафуанов, 1998, 2004).
Каждая психотерапевтическая школа также выстраивает свою онтологию и антропологию. Взгляд раннего психоанализа устроен так, что-бы эмпирическое богатство клинических жизненных описаний, свести к функционированию «психического аппарата», для бихевиорального терапевта главный предмет онтологической картины — это поведение организма в среде.
Понимающая психотерапия в качестве базового онтологического и антропологического представления полагает жизненный мир личности.
Понятие «жизненный мир» — одно из важнейших понятий феноменологической философии и психологии. Систематическая разработка этого понятия была осуществлена в поздней феноменологии Э. Гуссерля. Однако еще до его «феноменологической истории, — пишет И.Т. Касавин (2002), — термин "жизненный мир" (world of life, Lebenswelt) был введен в философию к началу XX в. американским прагматизмом (У. Джемс. Опыт деятельности. 1904), "философией жизни" (Г. Зиммель. Религия. 1907), а также другими немецкими авторами: протестантским философом Э. Трелчем (Перспективы христианства в отношении к современной философии. 1910) и представителем "позднего идеализма" Р. Ойкеном (Человек и мир. 1918)». У Э. Гуссерля понятие «жизненный мир» было призвано преодолеть объективизм и натурализм европейского рационализма, вытеснившего дух, человеческое, субъективное из науки. Жизненный мир у Э. Гуссерля — это «дофило-софское, донаучное, первичноев гносеологическом смысле сознание, ...сфера "известного всем, непосредственно очевидного", "круг уверен-ностей", ...которые приняты в человеческой жизни вне всех требований научного обоснования в качестве безусловно значимых и практических апробированных. Характерными чертами жизненного мира Гуссерль считал следующие: а) жизненный мир является основанием всех научных идеализации; б) жизненный мир — субъективен, т.е. дан человеку в образе и контексте практики...; в) жизненный мир — культурно-исторический мир, или, точнее, образ мира, каким он выступает в сознании различных человеческих общностей» (Румянцева, 2003, с. 369).
Хотя основатель феноменологической философии рассматривает понятие «жизненный мир» как некую форму сознания и преимущественно в контексте решения познавательных задач, но «подлинный замысел Гуссерля, — по мнению Х.-Г. Гадамера, — состоит в том, что он говорит уже не столько о сознании и даже не о субъективности, сколько о "жизни". Он хочет выйти за рамки актуальности полагающего сознания, и даже за рамки потенциальности сополагания, — к универсальности деятельности, которая только и может быть мерилом универсальности содеянного...» (Гадамер, 1988, с. 297).
Именно на этой трактовке замысла Гуссерля стоит прервать короткий историко-философский экскурс, сформулировав открываемую этой трактовкой важнейшую теоретико-методологическую задачу культур-но-деятельностной психологии. При всей значимости для развития нашей психологической традиции разработок понятия «жизненный мир» в феноменологии, экзистенциальной психологии и психиатрии (Л. Бин-свангер, М. Босс, Р. Мэй и др.), задача состоит в том, чтобы породить это понятие изнутри своего круга идей и подходов. Собственно, акт этого порождения уже совершен в психологии человеческого бытия С.Л. Рубинштейном (1997), глубоко продумавшим философско-методологические аспекты категории мира (см. Знаков, 2007, с. 374). Кроме того, сделан ряд принципиальных теоретических шагов по развитию этой категории.
Так, например, в психологической теории деятельности серьезную разработку получило понятие «образ мира» (Леонтьев А.А., 1979; Ве-личковский, 1983; Смирнов, 1983, 1985; Зинченко, 1991, 1997). По свидетельству С.Д. Смирнова, в последние годы жизни А.Н. Леонтьев был вдохновлен идеей «образа мира», а самому С.Д. Смирнову удалось сделать принципиальный шаг в развитии этого понятия, в распространении его влияния с одной лишь области познавательных процессов на облас-ти изучения процессов деятельности и аффективно-потребностной сферы (1983, с. 153—155), что по существу превращает понятие «образа мира» в базовую психологическую категорию.
В нашей работе (Василюк, 1984) в категориальный аппарат психологической теории деятельности было введено (точнее, из внутренней логики самой теории деятельности выведено) понятие «жизненный мир», которое затем получило развитие в работах Д.А. Леонтьева (1999, 2007). Введение категории жизненного мира позволяет осуществить систематический переход теории деятельности от мышления в плоскости отдельной деятельности субъекта к мышлению в многомерном пространстве жизни личности, включающем в себя сложные композиции отдельных мотивов и деятельностей (Василюк, 1984). Актуальной теоретической задачей остается прояснение отношений между понятиями «жизненный мир» и «образ мира». Но даже до такого прояснения, очевидно, что введение в культурно-деятельностную психологию этих категорий отчетливо проявляет заложенные в ней потенции и тенденции экзистенциального и феноменологического мышления (Дорфман, 1997; Леонтьев Д. А., 1997; Морозов, 2002).
Стоит согласиться с утверждением В.В. Знакова, что методологической основой реализации этих тенденций может послужить «психоло-гия человеческого бытия», начало которой положил в нашей психоло-гии С.Л. Рубинштейн. Линии же конкретных теоретических реализаций этой методологии, задаются, на наш взгляд, синтезом основных общепсихологических категорий отечественной психологии. А именно — различными аспектами исходной категории «жизнь-человека-в-мире»: «жизненный мир» (в его предметном и интерперсональном, субъект-субъектном измерениях), «жизнь человека» (в его измерениях как субъекта жизни и жизненного пути личности) (см. Василюк, 1986).
В чем значение понятия жизненного мира как базового онтологического представления для психотерапевтической теории и практики?
Каждая онтология явно или неявно задает позицию наблюдателя и метод его взаимодействия с наблюдаемым. В психоаналитическом мышлении объект наблюдения внутренний — психический аппарат, а стратегическая позиция наблюдателя внешняя (хотя оперативные, служебные позиции могут быть и внутренними, — эмпатическое понимание, использование объективного контрпереноса для диагностики состояния пациента). Поэтому основной метод постижения есть метод интерпретации, т.е. попытка истолковать наблюдаемое как проявление и следствие скрытого, ненаблюдаемого, которое наделяется статусом сущностной причины наблюдаемых явлений. В бихевиоральной терапии и объект наблюдения — внешний, и позиция наблюдателя также внешняя. В «экспериентальных» вариантах психотерапии объект наблюдения — внутренний, содержание сознания пациента, и наблюдатель старается занять внутреннюю же позицию, осмыслить и почувствовать мир изнутри как он дан самому субъекту, поэтому основной метод постижения здесь — вживание, вчувствование (Laing, 1967; Роджерс, 2002). При всей сложности принятия этого метода традиционным научным сознанием, необходимо подчеркнуть, что за ним стоит очень серьезная философская традиция, идущая, по крайней мере, от Гегеля. X.-
Г. Гадамер пишет, что «Гегель совершенно прав, когда диалектически выводит самосознание из жизни. Что является жизненным, то в действительности никогда по-настоящему не познается предметным сознанием, напряжением разума, который стремится проникнуть в закон явлений. ...Единственный способ постичь жизненное — это постичь его изнутри» (Гадамер, 1988, с. 302—304).
В практике понимающей психотерапии жизненный мир рассматривается как весь пространственно-временной объем обнимающей человека реальности, с населяющими его другими людьми, живыми существами и вещами, с его собственными чувствами, мнениями, убеждения-ми и т.д. Жизненный мир не может быть отнесен к одному из полюсов оппозиции «субъективное — объективное», это субъективная объективность, т.е. данность объективной реальности жизни в субъективной форме образов, чувств, переживаний, и одновременно объективная субъективность, т.е. субъективность обладающая всей полнотой действительности независимо от того, насколько она является истинной или ложной с точки зрения любого внешнего наблюдателя. Уникальный портрет каждого жизненного мира может быть дан с помощью следующего комплекта понятий — хронотоп, субъект-протагонист, Другой, характерная предметная наполненность, специфический язык это-го мира, его атмосфера, сюжет и миф.
Использование в практике психотерапии категории жизненного ми-ра особым образом структурирует восприятие психотерапевта и его профессиональную коммуникацию. Такое восприятие оказывается свободным от психодиагностической подозрительности, не лишая терапевта в то же время возможностей клинической наблюдательности; оно освобождает терапевта также от научно-объективирующей, отчуждающей аналитичности, не лишая при этом возможностей точного и систематического мышления.
Теоретические разработки психологии переживания, связанные с аналитикой жизненных миров, предлагают ряд идей, важных как для психотерапевтической стратегии, так и для психотерапевтической техники.
По отношению к последней описанная нами (Василюк, 1984) типология жизненных миров выступает в качестве одного из инструментов, опосредствующих терапевтическую технику, начиная с уровня базового методического алфавита понимающей психотерапии (Василюк, 1996, 2007).
Одна и та же жалоба пациента может быть прочитана психотерапевтом в контексте разных жизненных миров. Он тем самым поддерживает одно из возможных направлений разворачивания целостного переживания пациента. Например, жалоба пациента «Я чувствую себя одиноким и никому не нужным» может быть расслышана как инфантильный запрос на жалость, сочувствие и утешение, и терапевт может поддержать эту установку, интонационно реализуя востребованное утешающе-материнское отношение: «Вам страшно быть одному, и нет человека, который мог бы утешить, понять, пожалеть, поддержать в трудную минуту?» Однако на ту же жалобу терапевт может откликнуться, апеллируя не к инфантильному миру, а к миру реалистическому, прочитав смысл фразы клиента как постановку важной жизненной задачи: «Так ли я понял, что Вы пришли, потому что вовсе не согласны больше мириться с этим одиночеством и ненужностью и решили попытаться что-то изменить в Ваших отношениях с другими людьми?» Достаточно сравнить этот мобилизующий, «отцовский» ответ с предыдущим, чтобы почувствовать, насколько различными могут быть движения терапевтического процесса, отправляющиеся из одной точки, в зависимости от того, какой жизненный мир актуализируется психотерапией. Разумеется, психотерапевт не должен произвольно «назначать» определенный жизненный мир на должность доминирующего; дело именно в том, чтобы расслышать хотя бы и тихо, но реально звучащие в переживании пациента голоса различных жизненных миров, дать им сказать свое слово, выговорить свою правду, вступить в открытый диалог друг с другом.
Что же касается формулировки стратегии психотерапии с опорой на типологию жизненных миров, то в целом она состоит в «игре на повышение». Это означает, во-первых, поддержку такого разворачивания процесса переживания, который ведет к культивированию все более «высоких» типов жизненных миров и, в конечном итоге, творческого жизненного мира. Такая стратегическая линия понимающей психотерапии вовсе не объявляет, например, инфантильный жизненный мир малоценным, она лишь постулирует, что каждому жизненному миру дано решать свои задачи, и патогенным является, например, инфантильное решение ценностной задачи выбора или реалистической задачи достижения. Кроме того, между типами жизненных миров могут существовать не только отношения взаимоисключения, но и отношения включения, и как раз в симфонии творческого жизненного мира без «детского голоса» не обойтись.
Вторая стратегическая задача понимающей психотерапии определяется уже не содержательной типологией жизненных миров, а их стратиграфической иерархией (Василюк, «Модель стратиграфического анали-за сознания», в печати). Эта задача состоит в стремлении к повышению «личностного статуса» всплывающих в ходе психотерапии жизненных миров, многие из которых приобрели избыточную автономность и тенденцию к самочинному действию, утратили связь с «личностным центром». Психотерапия стремится к их возращению в лоно личностного бытия, и, соответственно, возвращению личности «авторских прав», авторского достоинства по отношению к совокупности всех порождаемых переживанием жизненных миров.
Проблемное состояние
В каждой из культурно-антропологических практик существуют не только свои представления о норме и идеале, но и специфические представления о патологии и проблемных состояниях человеческого существования, на преодоление которых эти практики направлены. В медицине, например, понятие болезни является системообразующей категорией, разработанной намного более подробно, чем категория здоровья. Общая теория болезни в медицине включает в себя такие измерения, как симптоматология, синдромология и нозология, учение об этиологии, патогенезе и патоморфозе заболеваний, эпидемиологию и т.д. В христианской аскетике чрезвычайно подробно разработаны классификации греховных и страстных состояний, их причины и связи между собой (см., напр.: (Влахос, 2004)).
Каждая психотерапевтическая школа также формирует свое особое общее представление о патологии: для психоанализа корнем всей разветвленной системы психопатологии является неосознаваемый конфликт, в бихевиоральной и когнитивной психотерапии патология мыслится как дезадаптивное поведение и дисфункциональное мышление соответственно.
В понимающей психотерапии общая категориальная форма описа-ния проблемного состояния задается понятием критической ситуации, развитым в контексте теории переживания (Василюк, 1995). Для психотерапевтической теории и практики важна и общая идея этой категории, и частные типологические ее разработки. Идея же, напомним, состоит в том, что критическая ситуация есть ситуация невозможности и бессмысленности.
Феноменологию смыслоутраты можно описать на основе данной выше феноменологии позитивного смысла. Утрата экзистенциальной истины переживается как неподлинность, неправда, фальшь и ложь жизни. Эти состояния могут сопровождаться либо циническим отказом от искания правды как таковой, либо обострением ригидной невротической оценочной установки на осуждение или самоосуждение7. Второй аспект смыслоутраты — это утрата жизненности. Она переживается как омертвелость, бесчувственность, упадок сил, энергии, жизненного интереса, тонуса, иногда — прямо как умирание. Третий аспект — это утрата пути жизни и переживание тупика, бесцельности, бесперспективности существования. Противоположность описанного выше переживания экзистенциальной ясности, когда человеку открыта цель и освещен путь, обнаруживается в жалобах пациентов на хаос, туман, неопределенность жизни, замутненное представление о жизненных целях и задачах. Противоположность же феномену вдохновения/силы выражается в утрате позитивного отношения между жизнью и путем и переживается как состояние безволия, апатии, бессилия, опустошенности, механичности, безрадостности исполнения жизненных действий как вынужденной повинности, тягостной обязанности и т.д.
_________________
7В онтогенетическом плане формирование структур Истинного и Ложного Я у ребенка в младенческом возрасте Д.В. Винникотт (2006) связывает с тем, окажется или нет его мать «достаточно хорошей». Когда мать недостаточно понимает потребности и спонтанные импульсы младенца, «ребенок остается изолированным. Практически он продолжает жить, но жить неподлинным образом» (там же, с. 12). То значение, которое придается отношению безоценочного принятия в личностно-центрированной терапии К. Роджерса, связано именно с этим аспектом смыслоутраты. Психотерапевтическое принятие — вовсе не солидарность со всеми идеями и мнениями пациента и не оправдание его, суть его в том, что оно вообще выводит терапевтические отношения из замкнутого круга оправдывания/осуждения и тем самым создает почву для личностного обновления человека, переживающего кризис.
_________________
Сходный круг размышлений применительно к психотерапии предлагает В.Н. Цапкин: «...уместно провести различие между оппозициями конгруэнтности/неконгруэнтности, с одной стороны, и оппозицией подлинности/неподлинности, с другой. Если первая оппозиция касается правды/неправды отдельного действия субъекта, его искренности, определяется соответствием действия субъекта с его экзистенциально-коммуникативной правдой, то оппозиция подлинности/неподлинности соотносится с контекстом жизни, то есть определяется соответствием поступка с экзистенциальной истиной. Способность субъекта прожи-вать свою экзистенциальную истину является точкой его подлинности, или аутентичности, что является высшим благом всех видов психотерапии экзистенциально-феноменологической ориентации (Л. Бинсвангер, М. Босс, К. Роджерс, Р. Мэй, Дж. Бьюдженталь, Ф. Перлз и др.)».
Подробное исследование феноменологии смысла и бессмысленности — задача, имеющая значение не только для общепсихологической теории и теории психотерапии, но и для непосредственной психотерапевтической практики. Описанные выше три аспекта феноменологии смыслоутраты четко соответствуют главной симптоматике пограничного личностного расстройства по DSM-IV. Однако более важными представляются не диагностические возможности такой схемы, а перспектива ее использования в качестве непосредственных клинических критериев динамики и даже микродинамики состояния пациента (Шведовский, 2006). Например, если в ходе сеанса пациент определяет свое состояние как состояние «полного хаоса и запутанности», а через некоторое время констатирует, что «хочет добиться большей структурированности и организованности», то подобное различие в описаниях может трактоваться как знак положительной микродинамики: желание структурированности, разумеется, означает признание ее отсутствия, но это уже и не полный хаос, поскольку в описании присутствует формулировка позитивной задачи.
Возвращаясь к значению для понимающей психотерапии общей идеи квалификации проблемного состояния пациента как ситуации невозможности, следует сказать, что ее признание психотерапевтом как таковой предохраняет его от соблазна скороспелых оптимистических акций, пытающихся «отменить» невозможность (неизбежность, безысходность или несбыточность) утешением, обнадеживанием и т.п., и тем самым как бы подменить собою творческий процесс работы переживания пациента, на который-то и возлагается главное упование. Миссия психотерапевта вовсе не в том, чтобы разрешить критическую ситуацию пациента как решают задачу, но в том, чтобы позволить этой ситуации проявиться во всей полноте, быть названной в ее может быть горькой правде и тем самым дать пациенту возможность встречи с трагическим болезненным опытом и пребывания в нем при поддержке и в присутствии другого человека. Одинокая встреча с этим опытом может быть настолько мучительной, что сознание наспех защищается от нее с помощью патологических форм переживания, формируя невроз как болезненное символическое замещение трагедии.
На уровне психотерапевтической техники реализация этой идеи критической ситуации состоит в твердом, лишенном фальшивых утешений и обещаний исследовании тупиков критической ситуации. Психотерапевт в этом отношении может оказаться почти незаменимой фигурой, потому что близкому человеку удержаться в позиции такого правдивого, трезвого принятия трагических аспектов бытия бывает почти невозможно из-за угрозы утраты самих отношений близости.
Психотерапевтический опыт показывает, что честное признание и прямое называние безысходных аспектов жизни пациента, как ни странно, чаще всего оказывается не подавляющим, не лишающим его последних опор, а, напротив, как раз дающим опору, как в известной стратегии умелых пловцов: попав в водоворот, они не тратят зря силы на то, чтобы вырваться из него, а доходят до дна, чтобы, оттолкнувшись, уйти в сторону и спастись. Не случайно переживание «удара о дно» является необходимым условием первого шага к исцелению в программе АА (Анонимных алкоголиков). Эта мысль является одной из ключевых для экзистенциальной психотерапии. Так, Р. Мэй, следуя за С. Кьеркегором и Ж.-П. Сартром, не раз повторял, что подлинная радость рождается в точке предельного отчаяния, что экзистенциальная тревога и экзистенциальное отчаяние являются необходимыми условиями для достижения состояния творчества, подлинности и осмысленности (May, 1987).
Это мужественная встреча с невозможностью может происходить в любой точке феноменологического поля смыслоутраты — точке «смерти», «бесцельности» или «лжи». Парадоксальный факт состоит в том, что такая встреча не закрепляет эту точку безнадежности, а воскрешает движение сознания и воли в одном из соответствующих измерений смыслового поля — измерении Смерть — Жизнь, Бесцельность — Путь, Ложь — Истина. Обсуждая использование в психоаналитической практике концептов Истинное и Ложное Я, Д.В. Винникотт пишет: «Признание важного факта, сделанное в нужный момент, открывает путь к коммуникации с Истинным Я. Один из пациентов, который в прошлом имел опыт неудачного анализа, построенного на Ложном Я, и который охотно кооперировался с аналитиком, полагавшим, что имеет дело с целостным Я, сказал мне: "Единственный раз, когда я почувствовал надежду, — это когда вы сказали, что не видите никакой надежды, и продолжили анализ"» (Винникотт, 2006, с. 19).
Типология критических ситуаций, предложенная в предыдущей части работы, также является важным элементом психотерапевтической теории понимающей психотерапии и инструментом психотерапевтической практики. В каждой реальной критической ситуации почти всегда можно усмотреть признаки всех описанных типов критических ситуаций. Некоторые из них выражены более выпукло, некоторые находятся в тени. Выбор того или другого из этих аспектов зависит от многих параметров психотерапевтической ситуации, в том числе от мнения самого пациента, от профессиональной и человеческой позиции терапевта, от сложившихся терапевтических отношений, от техники, которой лучше всего владеет терапевт, и даже от таких формальных аспектов, как количество имеющегося в распоряжении терапевтического времени.Например, если ситуация такова, что речь идет о разовой консультации, а в жалобах клиента обнаруживается глубинный внутренний конфликт, который сопровождается выраженными проявлениями стресса, то, даже понимая, что подлинная причина этого стресса — конфликт, терапевт, учитывая реальность ограниченного времени, может предложить пациенту сконцентрироваться именно на работе со стрессом, психотехнически связав эти две критические ситуации таким образом, что работа над стрессом станет условием будущей самостоятельной работы пациента над своим конфликтом. На уровне конкретной терапевтической реплики такого рода предложение может звучать примерно так: «Насколько я понимаю, Вы необыкновенно устали от этой внутренней раздвоенности, от невозможности сделать выбор, устали настолько, что от этого плохо спите, ощущаете, что мысли ходят по кругу, Вам трудно сосредоточиться, и потому Ваши размышления над этим конфликтом кажутся Вам бесплодными... Я предлагаю Вам сегодня посвятить наше время сеансу релаксации, которая позволит немного отдохнуть, прийти в себя, освежить силы, с тем, чтобы после этой передышки у Вас было больше энергии, ясности и решимости для продумывания конфликта, о котором Вы рассказывали». Такого рода композиции, предлагающие работу над одной критической ситуацией (в данном случае стрессом) как средство и условие работы над другой (в данном случае конфликтом), являются важным инструментом терапевтической тактики. Типология критических ситуаций предоставляет для этого достаточно удобный набор элементов, которые могут входить в самые разные комбинации, учитывающие нюансы конкретной психотерапевтической ситуации. В четвертой части работы будут описаны некоторые психотерапевтические методы, фокусирующиеся на работе с определенным типом критической ситуации.
Продуктивный процесс
Антропологические практики большей частью устроены таким образом, что нужные изменения производит, в конечном счете, не сам агент практики, будь то учитель, священник, воспитатель и пр., — без активно-сти человека, на которого эти практики направлены, они совершиться не могут. Учитель не способен никакими самыми подробными объяснениями с помощью самых совершенных учебных пособий произвести в голове ученика знание, если тот не предпримет усилия понимания; воспитание немыслимо без самовоспитания; духовное руководство окажется бесплодным без аскетического подвига самого человека. В силу этой синергетической природы антропологической практики ее ключевым элементом является специфическая человеческая активность, на развитие и поддержание которой практика, собственно, и направлена.
Выше, анализируя историю психотерапевтических упований, мы утверждали, что существующие психотерапевтические системы и различаются, прежде всего, по тому, на какой продуктивный процесс они возлагают надежды как на главный механизм производства терапевтических изменений. В психоанализе это процесс осознания, в бихевио-ральной терапии — научения.
Понимающая психотерапия солидаризуется в этом пункте со школами экзистенциально-гуманистического направления и полагает в качестве продуктивного процесса — процесс переживания. Описывая в этом разделе специфику понимающей психотерапии, необходимо подчеркнуть, что кате-горию переживания она разрабатывает в лоне отечественной общепсихологической традиции, а именно школы Л.С. Выготского — А.Н. Леонтьева.
Главные идеи, которые вносятся в развитие данной категории в рамках упомянутой школы, — это: а) представление о культурной, знаково-символической опосредствованности переживания; б) представление о деятельностной природе переживания; в) персонологическая трактовка переживания; г) представление одиалогичности переживания; д) типологизация закономерностей, которым подчиняется процесс переживания.
Идея культурно-символической опосредованности переживания была отчетливо сформулирована Л.С. Выготским еще до того, как он стал сис-тематически заниматься психологией. Анализируя значение «Дня 9 ава» в иудейской религиозной традиции, Л.С. Выготский задается вопросом: зачем нужен повторяющийся из года в год траур, в чем его смысл? Этот день историей народа был превращен в исторический символ, в собиратель скорби. «Обращаясь в кругу времен, этот день всасывает, впитывает, вбирает в себя скорбь отдельных мелькающих дней и возносит ее к неувядаемому и вечному... Надо претворить свою боль — живую боль этих дней — в неувядаемую скорбь этого великого дня, слить ее с его скорбью и вознести к вечной, неумирающей печали... "Печалью в вышине отмече-на звезда моя"» (Выготский, 1916). В короткой газетной заметке Л.С. Выготского в емкой поэтичной форме выражены основные идеи культурно-исторического подхода к переживанию — диалектика личного и общественного переживания, представление о культурных символических формах, впитывающих и сохраняющих исторический опыт переживания, мысль о духовной сублимации душевного процесса переживания.
В наших работах (Василюк, 1984, 2003) были развиты некоторые из этих идей. В недавней публикации А.Б. Орлов (2003) высказал убеждение, что идея культурно-символической опосредованности переживания является центральной для развития отечественной психологической традиции.
Для психотерапевтической практики особенно важно подчеркнуть значение теоретического понимания переживания как деятельности личности. В «экспериентальных» подходах, например в экзистенциальной психотерапии Дж. Бьюдженталя (2001), методе фокусирования Ю. Джендлина (2000), процессуальной психотерапии А. Минделла (1999) и др., наблюдается тенденция рассматривать переживание как самодействующий процесс, а не как личностную активность. Личность растворяется в переживании, словно бы переживает переживание, а не личность. В плане психотерапевтического метода такое понимание приводит к тому, что личность пациента тем или другим способом постоянно «окунается» в поток процесса переживания, ей не дают надолго поднять голову над этим процессом, как бы не веря, что личностный акт способен быть творческим и плодотворным. Складывается устойчивое ощущение, что при всех персонологических декларациях многие экспериентальные подходы не могут удержать в своих идейных и методических структурах понимание личности как тайны*, как далее неразложимой цельности, и потому подпадают под обаяние и власть «восточного» мышления, разворачивая терапевтическую практику не как личностно-центрированную, а центрированную на стихии чувственного переживания.
__________________
*О неразрывной связи «понимания» и «тайны» в мышлении Л.С. Выготского убедительно пишет А.А. Пузырей (2005, с. 310—311).
__________________
Этой натуралистической, эссенциалистской и индивидуалистически-монологической тенденции психотерапевтической мысли необходимо противопоставить понимание переживание под углом зрения категорий культуры, деятельности и личности.
Все названные линии концепции переживании, развиваемые в русле культурно-деятельностной психологии, позволяют наметить главную линию психотерапевтической стратегии в понимающей психотерапии. Она состоит не просто в том, чтобы стимулировать процесс переживания, с помощью которого пациент сможет справиться с критической ситуацией. Главная задача заключается в развитии переживания за счет создания полноценной символической, творчески-диалогической сре-
ды, в которой переживание на время может стать ведущей деятельностью (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин), т.е. деятельностью, которая определяет собой развитие личности.
О развитии и переживания, и личности речь идет не потому, что понимающая психотерапия хотела бы возложить на пациента грандиозные задачи «личностного роста», исходя из своего антропологического идеала. Дело в самой реальности кризиса: без развития переживания, собственно, серьезный жизненный кризис нельзя полноценно здоровым образом преодолеть. Совладание с кризисом невозможно без метаморфозы личности, переживание есть тот продуктивный процесс, который, сам творчески изменяясь, вытягивает, развивает личность.
Такой взгляд на категорию переживания, выполняющую в структуре теории понимающей психотерапии функцию продуктивного процесса, позволяет сформулировать представление о критериях успешности психотерапии. Успех психотерапии тем более вероятен, чем более личностную, авторскую форму сможет обрести в нем переживание пациента, чем более оно будет активно, чем более полноценные символические средства будут иметь обращение в терапевтическом процессе, чем более переживание сможет обрести подлинно диалогический характер и, наконец, чем больше оно будет следовать принципу творчества.
Принцип деятельности профессионала и метод
В каждой антропологической практике есть общая категория для описания специфической деятельности агента этой практики. Врач осуществляет лечение, учитель — обучение, священник — тайносовершение и душепопечение. Эти трюизмы являются важнейшими культурными формами, удерживающими целые социо-культурные сферы. Например, избавить человека от головной боли или помочь роженице разрешиться от бремени может и шаман (Леви-Стросс, 2001), но от этого его камлание не становится «лечением». Врач именно лечит, опираясь на всю сложнейшую медицинскую систему диагностики и выбирая из множества возможных терапевтических методов, доказавших свою эффективность, тот, который адекватен в данном случае. Вне зависимости от того, идет ли речь о медицине аллопатической, гомеопатической или другом направлении, от того, в каких терминах описывается организм и болезнь, общекатегориальная схема остается той же: избранный метод осуществляет лечебное воздействие на организм, в результате которого запускаются его целительные силы, переводящие из состояния болезни в состояние здоровья.
Разные психотерапевтические школы по-разному формулируют общую идею деятельности психотерапевта, и основной метод в рамках этой школы обязан соответствовать этой идее. Отвечая на вопрос, что, собственно, делает психотерапевт, существующие школы предлагают категории, которые демонстрируют их ориентацию на тот или другой из давно укорененных в культуре видов антропологической практики. Так, 3. Фрейд, выдвигая на роль общей категории для психотерапевтической акции понятие «анализ», явно тяготел к стилистике научно-исследовательской практики. Основной метод психоанализа — интерпретация — по духу вполне соответствует научной парадигме: не доверять явлениям, искать за ними скрытые сущностные динамические си-лы, действием которых и объясняются эти явления. Бихевиоральная терапия в этом структурном элементе теории ориентируется на совсем иную практику — педагогическую. Бихевиоральный терапевт осуществляет переучивание, с помощью метода подкрепления разрушая связи, ведущие к дезадаптивному поведению, и устанавливая связи, ведущие к поведению адаптивному.
Категория, которой описывается принцип деятельности психотерапевта в рамках понимающей психотерапии, может быть названа сопереживанием. Мы различаем три динамических плана осуществления работы переживания — план непосредственного переживания, план выражения и план осмысления (Василюк, 2005). Процессы, относящиеся ко всем трем планам, соприсутствуют и взаимодействуют друг с другом, у каждого из них есть свое предназначение, своя незаменимая роль в целостной работе переживания.
В плане непосредственного переживания человек должен чувственно испытать, прожить всю полноту выпавшей на его долю реальности. В плане выражения — открыть и выразить (в действии и общении, словесно и телесно) правду своего внутреннего опыта. Миссия процессов плана осмысления состоит в решении задачи на смысл. Соответственно, психотерапевтическое сопереживание должно принять участие во всех этих измерениях процесса переживания, и, значит, сама работа сопереживания должна в себе содержать эти измерения.
Сопереживание мыслится в понимающей психотерапии не только и не столько как эмоциональный отклик на чувства клиента, но как целостная творческая работа психотерапевта, протекающая в разных планах и на разных уровнях (и эмоциональном, и рефлексивном, и личностном, и коммуникативно-выразительном), направленная на содействие продуктивному ходу и развитию переживания клиента.
Общим методом этой целостной работы сопереживания является понимание. В настоящей статье мы ограничимся тем, что очертим общий, теоретический и методический смысл этого метода. Понимание осуществляется не как предварительная диагностическая процедура, обслуживающая последующие терапевтические акции. Понимание и есть сама психотерапевтическая акция. Она реализует особую интенцию, особую диалогическую установку, в соответствии с которой понимание является главной, самоценной и в известном отношении последней задачей терапевта. Воплощая эту установку, терапевт все делает для того, чтобы понять пациента и дать ему это понимание, а не старается понять ради того, чтобы что-то сделать — повлиять, вылечить, исправить, научить.
Такой принципиальный отказ терапевта от активизма, от идеологии воздействия (ср. Гулина, 2001; Пузырей, 2005)9 в сочетании с его полной обращенностью к пациенту, настроенностью на него создает напряженное диалогическое поле, в котором постоянно удерживается нудящая, взывающая «пустота», напряженно ждущее его слова молчание (Копьев, 1992, 1999). В обыденном общении эта пустота тут же заполняется советом, рекомендацией, утешением, предложением помощи и т.д. В понимающей психотерапии терапевт, напротив, совершает усилия, чтобы расчищать диалогическое пространство, создавая для пациента плодотворную возможность самому заполнить пустоту. По существу, заполнена она может быть только свободой пациента — свободой его слова, свободой переживания, свободой самосознания, свободой воли. Понимание — это приглашение к свободе. И призыв к творчеству: свободный акт всегда несет в себе повышенный градус креативности, а уж совершённый в ситуации кризиса, из глубины страдания, беспомощности и бессмысленности, он есть само творчество, рождающее из ничего.
____________________
9По мнению В.Н. Цапкина, «...совершенное Фрейдом еще во времена "Исследований истерии" открытие действенности отказа от терапевтического активизма (гипнотического, суггестивного, рационального убеждения и т.п.) легло в основу фундаментального для психоаналитика правила воздержания» (Цапкин, в печати).
____________________
Отказ психотерапевта от активизма вовсе не означает его пассивности. В зависимости от конкретной ситуации, от состояния пациента, от своего темперамента, наконец, психотерапевт может быть очень активным и при этом не проводить никакой своей линии, не искать своего, но упорно создавать условия, пробуждающие внутренний личностный акт самого пациента, который мы и называем продуктивным переживанием. Ю. Джендлин (1993) описывает, как он часами стоял с застывшим в каталепсии пациентом, время от времени сообщая ему, что он, психотерапевт, думает и чувствует по поводу возможных мыслей и чувств неподвижного и молчащего пациента. Вся активность и вся инициатива общения исходила в данном случае от терапевта, и, тем не менее, она осуществляла понимающую, индирективную установку.
Понимание чуждо активизму в том смысле, что оно не наступательно; понимание в психотерапии, скорее, отступает, уступает, освобожда-ет место, где только что была моя, психотерапевта, идея, мое видение ситуации, моя оценка, мой план, а теперь может разместиться идея пациента, его видение, оценка или план. Принципиально важно, что, отступая, терапевт остается в присутствии (этим отступлением, собственно, присутствие порождая), культивируя и наращивая степень своей открытости и готовности к принятию и встрече с инаковостью пациен-та. Понимание дает терапевту знание о пациенте, но это знание особое
и по способу получения, и по своему виду. Терапевт не должен быть проницательным, проникающим в жизненный мир клиента, чтобы силою своего ума или исследовательской техники добыть знание о нем. Нужное для дела психотерапии знание он не добывает, а, скорее, обретает, получает в дар. Знание это особого рода — его можно назвать «откровенным» знанием: жизненный мир пациента открывается навстречу терапевту и тем самым открывает себя и для самого пациента.
Таким образом, понимание в психотерапии должно мыслиться не как ментальная операция, но как личностно-экзистенциальный акт, зовущий, приглашающий, встречающий, «подстрекающий» к свободе и подтверждающий бытие другого человека, пациента. Понимание не есть внешнее отображение бытия личности другого, бытия, способного существовать без этого и безо всякого понимания, понимание не «роскошь человеческого общения», оно — конститутивный элемент самой экзистенции. Непонимание — не просто досадное недоразумение, оно отрицает самоценное личностное бытие, в пределе — умерщвляет его10.
_____________________
10Н.Ф. Калина, характеризуя понимание как коэкзистенцию, пишет: «Процесс объективации субъективной психической реальности в качестве способа утверждения индивидуальной субъективности требует ответного понимания... Если же процессы объективации и понимания рассогласованы, или последнее отсутствует в качестве экзистенциального отклика на самопредъявление и самораскрытие субъекта, то это переживается им как тотальная жизненная фрустрация, экзистенциальное одиночество и аномия. В менее острых формах такая ситуация становится источником разнообразных личностных и психологических
проблем. Она всегда присутствует у людей, которые обращаются за помощью к психотерапевту» (Калина, 1999, с. 152).
_____________________
Возможно и необходимо развивать технику психотерапевтического понимания, как поэт и художник развивают технику своего искусства, но нужно помнить, что понимание, так же как поэзия, принципиально негарантировано. Событие понимания может не состояться даже при самой изощренной искусности терапевта. Но все же непонимание мо-жет произойти и «по техническим причинам». Что касается этой стороны дела, то понимающая терапевтическая установка реализуется с помощью разнообразных технических средств, которые можно сравнить с разнообразными призмами или, лучше, акустическими приборами, позволяющими слышать в каждом слове пациента широкий спектр смыслов и избирательно реагировать на них (см., напр.: (Василюк, 1996)).
* * *
Описанная в этой статье система категорий вовсе не исчерпывает собою всех структурных элементов антропологических практик вооб-ще, и психотерапевтических систем в частности. Например, можно бы-ло бы включить в этот ряд категорию терапевтических отношений и проанализировать, какие специфические отношения складываются в разных практиках, и в частности в понимающей психотерапии. Однако представленного набора категорий вполне достаточно для определения специфики понимающей психотерапии, по сравнению со смежными культурно-антропологическими практиками. Именно эта задача — основная для данной статьи, поскольку понимающая психотерапия рождается в научной традиции, которая до сих пор не имела своих подроб-но разработанных психотерапевтических изводов, и потому ей приходится начинать с начала, определяя специфику психотерапии в общекультурном, а неузкопрофессиональном поле.Описанная в этой статье система категорий вовсе не исчерпывает собою всех структурных элементов антропологических практик вообще, и психотерапевтических систем в частности. Например, можно было бы включить в этот ряд категорию терапевтических отношений и проанализировать, какие специфические отношения складываются в разных практиках, и в частности в понимающей психотерапии. Однако представленного набора категорий вполне достаточно для определения специфики понимающей психотерапии по сравнению со смежными культурно-антропологическими практиками. Именно эта задача — основная для данной статьи, поскольку понимающая психотерапия рождается в научной традиции, которая до сих пор не имела своих подробно разработанных психотерапевтических изводов, и потому ей приходится начинать с начала, определяя специфику психотерапии в общекультурном, а не узкопрофессиональном поле. Что касается второй из обозначенных выше задач — сопоставления понимающей психотерапии с существующими психотерапевтическими системами, то она должна быть решена в рамках специального компаративистического исследования, которое в данной статье намечено лишь в общих чертах.
ЛИТЕРАТУРА
Василюк Ф. Е. Психология переживания / Ф. Е. Василюк. — М.: МГУ, 1984. — 200 с.
Василюк Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций / Ф. Е. Василюк // Психол. журн. — 1995. — Т. 16. — №3. — С. 90—101.
Василюк Ф. Е. Семиотика психотерапевтической ситуации и психотехника понимания / Ф. Е. Василюк // Моск. психотерапевт. журн. — 1996. — № 4. — С. 48—68.
Василюк Ф. Е. Семиотика и техника эмпатии / Ф. Е. Василюк // Вопр. психол. — 2007. — № 1. — С. 3—14.
Василюк Ф. Е. Понимающая психотерапия: опыт построения психотехнической системы / Ф. Е. Василюк // Гуманитарные исследования в психотерапии: труды по психотерапии и психологическому консультированию. — М.: ПИ РАО; МГППУ, 2007а. — Вып. 1. — С. 159— 203.
Василюк Ф. Е. Модель стратиграфического анализа сознания /
Ф.Е. Василюк // Моск. психотерапевт. журн. — В печати.
Величковский Б. М. Образ мира как гетерархия систем отсчета / Б. М. Величковский // А. Н. Леонтьев и современная психология. — М., 1983. — С. 155—165.
Винникотт Д. В. Искажение Эго в терминах истинного и ложного Я //
Д. В. Винникотт // Моск. психотерапевт. журн. — 2006. — № 1. — С. 5—19.
Выгодский Л. Траурные строки (День 9 ава) / Л. Выгодский // Новый путь. — 1916. — № 27. — С. 28—30.
Гадамер, Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики /
Х.-Г. Гадамер. — М.: Прогресс, 1988. — 704 с.
Дорфман Л. Я. Детерминированность и свобода человека / Л. Я. Дорф-ман // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. — М.: Смысл, 1997. — С. 145—155.
Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания / В. П. Зинченко // Вопр. психол. — 1991. — № 2. — С. 15—37.
Калина Н. Ф. Лингвистическая психотерапия / Н. Ф. Калина. — Киев: Ваклер; Альтерпрес, 1999. — 283 с.
Касавин И. Т. Мир науки и жизненный мир человека: [Электрон. ресурс] / И. Т. Касавин. — 2002. [http://filosof.historic.ru]
Копьев А. Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы психологической клиники / А. Ф. Копьев // Моск. психотерапевт. журн. — 1992. — № 1. — с. 33—49.
Копьев А. Ф. Взаимоотношение «Я» — «Другой» и его значение для практической психологии / А. Ф. Копьев // Моск. психотерапевт, журн. — 1999. — № 2. — С. 48—61.
Коченов М. М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. — 116 с.
Леонтьев А. А. Деятельность и общение / А. А. Леонтьев // Вопр. филос. — 1979. — № 1. — С. 121—132.
Леонтьев Д. А. Самореализация и сущностные силы человека / Д. А. Леонтьев // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспекти-ва в постсоветской психологии / Под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. — М.: Смысл, 1997. — С. 156—176.
Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика / Д. А. Леонтьев. — 3-е доп. изд. — М.: Смысл, 2007. — 512 с.
Минделл А. Вскачь, задом наперед. Процессуальная работа в теории и практике / А. Минделл, Э. Минделл. — М.: Класс, 1999. — 224 с.
Морозов С. М. Диалектика Выготского: внечувственная реальность деятельности / С.М. Морозов. — М.: Смысл, 2002. — 118 с.
Орлов А. Б. Очерк развития схизиса / А. Б. Орлов // Вопр. психол. — 2003. — № 2. — С. 70—85.
Пузырей А. А. Психология. Психотехника. Психагогика / А. А. Пузырей. — М.: Смысл, 2005. — 488 с.
Роджерс К. Искусство консультирования и Терапии / К. Роджерс. — М.: Апрель-Пресс; Изд-во Эксмо, 2002. — 976 с.
Рубинштейн С. Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. — М.: Наука, 1997. — 191с.
Румянцева Т. Г. Жизненный мир / Т.Г. Румянцева // Новейший филос. словарь. — Минск, 2003. — С. 369—370.
Сафуанов Ф. С. Судебно—психологическая экспертиза в уголовном процессе: науч.-практ. пос. / Ф. С. Сафуанов. — М.: Гардарика; Смысл, 1998. —192 с.
Сафуанов Ф. С. Теоретические основы комплексной судебной психолого-психиатрической эксперты / Ф. С. Сафуанов // Медицинская и судебная психология. — М., 2004. — С. 336—381.
Смирнов С. Д. Понятие «образ мира» и его значение для психологии познавательных процессов / С. Д. Смирнов // А. Н. Леонтьев и современная психология. — М., 1983. — С. 149—155.
Смирнов С. Д. Психология образа: проблема активности психического отражения / С. Д. Смирнов. — М.: Изд-во МГУ, 1985. — 232 с.
Цапкин В. Н. К новой картографии поля мировой психотерапии / В. Н. Цапкин // Моск. психотерапевт. журн. (в печати).
Шведовский О. В. Исследование микродинамики изменений личности в процессе понимающей психотерапии / О. В. Шведовский // Психологическая наука и образование. — 2006. — № 3. — С. 89—98.
Laing R. D. The Politics of Experience and The Bird of Paradise / R. D. Laing. — Harmondsworth: Penguin Books, 1967. — 160 p.
May R. The Human Dilemma / R. May. — Berkeley: Thinking Allowed Productions, 1987.