Внимание! Этот текст находится в процессе редакции и адаптации для публикации на сайте. Настоящая версия предоставлена для предварительного ознакомления и может содержать неточности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 07-06-00477а.
Майевтика как метод понимающей психотерапии
Предметом исследования выступает одна из базовых единиц развиваемой автором психотехнической теории понимающей психотерапии — «майевтика — рефлексия». Анализируется структура майевтики как коммуникативного акта психотерапевта. Общая структура майевтической реплики включает в себя следующие элементы: оператор понимания; носитель убеждения; модус убеждения; убеждение; Другой. Убеждение, в свою очередь, представлено такими структурными элементами, как протагонист, модальность и суждение. Рассматриваются возможности варьирования майевтических реплик и функции этих вариаций в психотерапевтическом процессе.
Ключевые слова: переживание, понимающая психотерапия, психотехническая единица, майевтика, эмпатия, кларификация, рефлексия.
Предлагаемая статья является четвертой частью цикла работ, посвященных описанию «технологического алфавита» понимающей психотерапии [2]. В первой — «Уровни построения переживания и методы психологической помощи» [5] — была задана общая схема: активность клиента во время консультации рассматривалась как работа переживания, отдельные акты которой опосредованы разными уровнями системы сознания («рефлексией», «сознаванием», «непосредственным переживанием», «бессознательным»). Во встречной работе сопереживания психотерапевта должны быть «струны», способные отозваться на процессы каждого из уровней переживания клиента. В качестве таковых были предложены следующие методы психотерапевтического отклика — «майевтика», «кларификация», «эмпатия» и «интерпретация». Сочетание уровней построения переживания клиента и методов терапевтического сопереживания терапевта образует систему базовых психотехнических единиц понимающей психотерапии (см. рис.).
В каждой из этих психотехнических единиц «левый» полюс — один из уровней осуществления работы переживания,
а «правый» — один из видов психотерапевтического понимания и, соответственно, методов осуществления работы сопереживания.
Ключевые слова: переживание, понимающая психотерапия, психотехническая единица, майевтика, эмпатия, кларификация, рефлексия.
Предлагаемая статья является четвертой частью цикла работ, посвященных описанию «технологического алфавита» понимающей психотерапии [2]. В первой — «Уровни построения переживания и методы психологической помощи» [5] — была задана общая схема: активность клиента во время консультации рассматривалась как работа переживания, отдельные акты которой опосредованы разными уровнями системы сознания («рефлексией», «сознаванием», «непосредственным переживанием», «бессознательным»). Во встречной работе сопереживания психотерапевта должны быть «струны», способные отозваться на процессы каждого из уровней переживания клиента. В качестве таковых были предложены следующие методы психотерапевтического отклика — «майевтика», «кларификация», «эмпатия» и «интерпретация». Сочетание уровней построения переживания клиента и методов терапевтического сопереживания терапевта образует систему базовых психотехнических единиц понимающей психотерапии (см. рис.).
В каждой из этих психотехнических единиц «левый» полюс — один из уровней осуществления работы переживания,
а «правый» — один из видов психотерапевтического понимания и, соответственно, методов осуществления работы сопереживания.
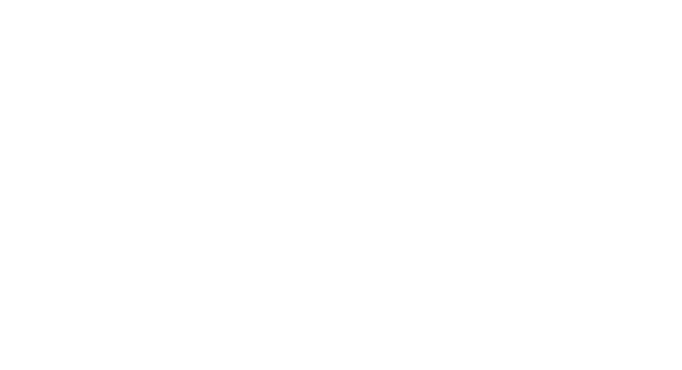
Во второй и третьей работах цикла ([4] и [3]) были проанализированы психотехнические единицы «сознавание — кларификация» и «непосредственное переживание — эмпатия». В данной статье, посвященной психотехнической единице «рефлексия — майевтика», основное внимание будет уделено ее методическому полюсу — майевтике.
Чтобы в ходе переживания совершились личностные изменения, человеку необходимо, кроме прочего, по-новому отнестись к своим внутренним правилам и аксиомам, принципам и убеждениям, нормам и ценностям. В стабильное время они кажутся незыблемыми и самоочевидными, но время кризиса есть время «суда» (по-гречески «кризис» — «суд»): человек вынужден приостановить свою устремленность к прежним целям (тем более что многие из них в переживаемой критической ситуации лишились смысла) и пересмотреть «внутреннее законодательство», которое предопределяло его целеполагания, действия и решения. Это одна из важнейших задач работы переживания.
Однако сам процесс переживания является плотью от плоти всего жизненного процесса и, следовательно, управляется все теми же убеждениями и нормами. И все же среди различных процессов целостной работы переживания имеются и те, что способны дать человеку шанс усомниться в самоочевидности прежних внутренних постулатов, поставить их под вопрос. Речь идет о процессах рефлексии. В современных теоретических исследованиях рефлексия рассматривается как особый метасистемный уровень организации психики, позволяющий психике преодолевать собственную «системную ограниченность» [8], [9].
В понимающей психотерапии для стимуляции рефлексивных процессов в сознании клиента применяется метод майевтики. Его главный эстетический принцип — «остранение» (В.Б. Шкловский): майевтика способна повергнуть в растерянность, остановить привычный ход мысли, освежить взгляд, обновить отношение. Это довольно острое психотерапевтическое оружие, и потому применяться оно должно с большой осторожностью. В рамках понимающей психотерапии майевтика используется достаточно редко — за целую консультацию терапевт может всего 2—3 раза воспользоваться майевтическими интервенциями. Однако эти точечные включения оказываются нередко экстремумами терапевтического процесса, резко изменяющими направление всего хода переживания клиента. Откликом на майевтику может быть либо сомнение пациента в истинности своего убеждения и корректировка его, либо укрепление в своей вере, усиление убежденности, превращение ее в осознанную личностную позицию. Во всяком случае, майевтика требует от человека выработки рефлексивного отношения к убеждению, которое лежало в основании его суждения.
Разумеется, на психотерапевтическую консультацию приходят не для того, чтобы поделиться своими взглядами и убеждениями, и потому доминирующим жанром речи пациента являются вовсе не логические суждения, а скорее жалобы. Большинство его реплик, если они даже и не являются прямыми жалобами, несут в себе центральную жанровую характеристику жалобы: неудовлетворенность реальностью. Эта оценка реальности как неудовлетворительной свидетельствует, что пациент каким-то образом сопоставил реальность с некой нормой (должным, желательным, ценным) и обнаружил несоответствие между ними. При этом ни саму норму, ни акт сопоставления пациент обычно не формулирует и актуально не осознает. Не осознает чаще всего не потому, что норма эта скрыта в бессознательном, а, напротив, потому, что она слишком самоочевидна, чтобы в обычных условиях стать «фигурой», предметом специального внимания и обдумывания.
Психотерапевтическая майевтика прямо называет такие «сами собой разумеющиеся» нормы, выявляя логическую связь между этими не прозвучавшими, но подразумевавшимися нормами и явно высказанными жалобами пациента, и тем самым задним числом придает сообщению клиента такой вид, как будто оно было развернутым обоснованным суждением. Жалобу клиента «плохо, что "A"» эмпатическая установка терапевта «прочитала» бы как эмоциональное переживание неудовлетворенности, а психотерапевтическая майевтика усматривает за жалобой целостную логическую конструкцию: «Во-первых, вы убеждены, что в жизни должно было бы случиться "N", во-вторых, вы оцениваете, что случилось А и А ≠ N, поэтому, в-третьих, вы делаете вывод, что "А" — плохо». Благодаря такой реконструкции пациент получает возможность заметить ту «максиму», которой он, по предположению терапевта, руководствовался, и обретает тем самым дополнительную степень свободы в совладании с критической ситуацией — теперь он может пытаться изменить не только реальность и ее образ, не только свои действия и свое отношение, но и те основания, которые изнутри предопределили образ, действие и отношение.
Чтобы в ходе переживания совершились личностные изменения, человеку необходимо, кроме прочего, по-новому отнестись к своим внутренним правилам и аксиомам, принципам и убеждениям, нормам и ценностям. В стабильное время они кажутся незыблемыми и самоочевидными, но время кризиса есть время «суда» (по-гречески «кризис» — «суд»): человек вынужден приостановить свою устремленность к прежним целям (тем более что многие из них в переживаемой критической ситуации лишились смысла) и пересмотреть «внутреннее законодательство», которое предопределяло его целеполагания, действия и решения. Это одна из важнейших задач работы переживания.
Однако сам процесс переживания является плотью от плоти всего жизненного процесса и, следовательно, управляется все теми же убеждениями и нормами. И все же среди различных процессов целостной работы переживания имеются и те, что способны дать человеку шанс усомниться в самоочевидности прежних внутренних постулатов, поставить их под вопрос. Речь идет о процессах рефлексии. В современных теоретических исследованиях рефлексия рассматривается как особый метасистемный уровень организации психики, позволяющий психике преодолевать собственную «системную ограниченность» [8], [9].
В понимающей психотерапии для стимуляции рефлексивных процессов в сознании клиента применяется метод майевтики. Его главный эстетический принцип — «остранение» (В.Б. Шкловский): майевтика способна повергнуть в растерянность, остановить привычный ход мысли, освежить взгляд, обновить отношение. Это довольно острое психотерапевтическое оружие, и потому применяться оно должно с большой осторожностью. В рамках понимающей психотерапии майевтика используется достаточно редко — за целую консультацию терапевт может всего 2—3 раза воспользоваться майевтическими интервенциями. Однако эти точечные включения оказываются нередко экстремумами терапевтического процесса, резко изменяющими направление всего хода переживания клиента. Откликом на майевтику может быть либо сомнение пациента в истинности своего убеждения и корректировка его, либо укрепление в своей вере, усиление убежденности, превращение ее в осознанную личностную позицию. Во всяком случае, майевтика требует от человека выработки рефлексивного отношения к убеждению, которое лежало в основании его суждения.
Разумеется, на психотерапевтическую консультацию приходят не для того, чтобы поделиться своими взглядами и убеждениями, и потому доминирующим жанром речи пациента являются вовсе не логические суждения, а скорее жалобы. Большинство его реплик, если они даже и не являются прямыми жалобами, несут в себе центральную жанровую характеристику жалобы: неудовлетворенность реальностью. Эта оценка реальности как неудовлетворительной свидетельствует, что пациент каким-то образом сопоставил реальность с некой нормой (должным, желательным, ценным) и обнаружил несоответствие между ними. При этом ни саму норму, ни акт сопоставления пациент обычно не формулирует и актуально не осознает. Не осознает чаще всего не потому, что норма эта скрыта в бессознательном, а, напротив, потому, что она слишком самоочевидна, чтобы в обычных условиях стать «фигурой», предметом специального внимания и обдумывания.
Психотерапевтическая майевтика прямо называет такие «сами собой разумеющиеся» нормы, выявляя логическую связь между этими не прозвучавшими, но подразумевавшимися нормами и явно высказанными жалобами пациента, и тем самым задним числом придает сообщению клиента такой вид, как будто оно было развернутым обоснованным суждением. Жалобу клиента «плохо, что "A"» эмпатическая установка терапевта «прочитала» бы как эмоциональное переживание неудовлетворенности, а психотерапевтическая майевтика усматривает за жалобой целостную логическую конструкцию: «Во-первых, вы убеждены, что в жизни должно было бы случиться "N", во-вторых, вы оцениваете, что случилось А и А ≠ N, поэтому, в-третьих, вы делаете вывод, что "А" — плохо». Благодаря такой реконструкции пациент получает возможность заметить ту «максиму», которой он, по предположению терапевта, руководствовался, и обретает тем самым дополнительную степень свободы в совладании с критической ситуацией — теперь он может пытаться изменить не только реальность и ее образ, не только свои действия и свое отношение, но и те основания, которые изнутри предопределили образ, действие и отношение.
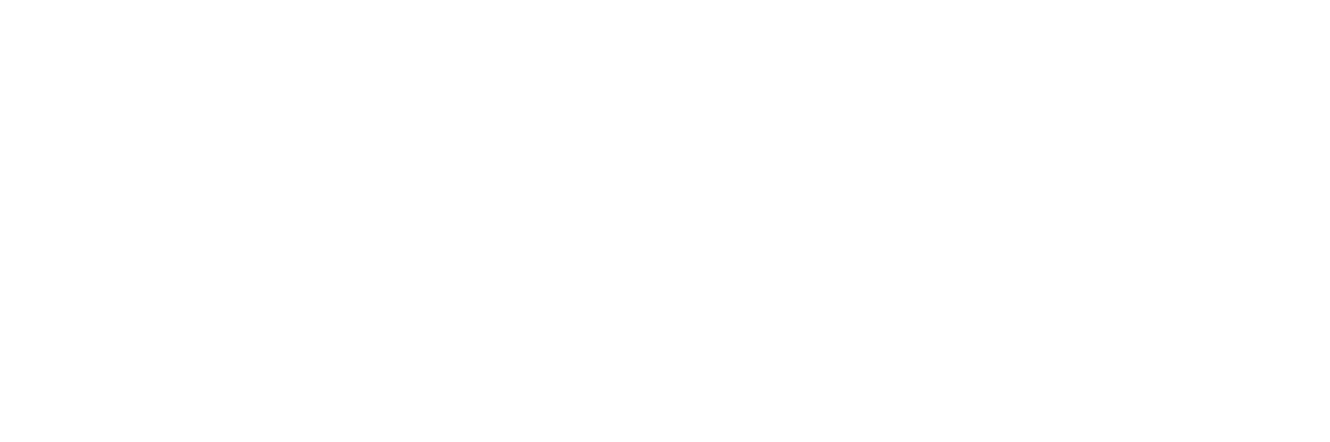
СТРУКТУРА МАЙЕВТИКИ
Общая структура майевтической реплики терапевта включает в себя следующие элементы: 1) оператор понимания; 2) носитель убеждения (Р1); 3) модус убеждения; 4) убеждение; 5) Другой. Центральный элемент, «убеждение», состоит, в свою очередь, из трех основных частей: протагонист (Р2), модальность, суждение. В таблице дан условный пример майевтической реплики.
На практике майевтические реплики психотерапевта не обязательно должны сохранять полную структуру. Для достижения майевтического эффекта, т.е. стимуляции рефлексивного уровня в работе переживания клиента, иногда достаточно очень лаконичных средств.
Рассмотрим на конкретных примерах1, как могут меняться различные элементы структуры майевтической реплики терапевта и каковы потенциальные функции этих вариаций для различных аспектов терапевтического процесса.
______________________________
1Большинство примеров — фрагменты из тренировочных студенческих работ, в которых отрабатывалась формальная техника понимающей психотерапии в отвлечении от реального психотерапевтического контекста.
______________________________
Оператор понимания и носитель убеждения. Эти структурные элементы майевтики, а также их вариации и функции принципиально не отличаются от аналогичных элементов структуры эмпатии [5]. Приводим здесь их краткое изложение.
Оператор понимания (т.е. слова «правильно ли я вас понимаю», «так ли я понял» и т.п.) выполняет различные функции по отношению к разным фигурам психотерапевтической ситуации. По отношению к клиенту функция оператора понимания состоит в «сообщении» ему, что именно он является инициативным субъектом терапевтического процесса, берущим на себя ответственность за прояснение и решение проблемы. По отношению к терапевту оператор понимания несет важную функцию диалогического кенозиса, самоумаления, профилактически ограничивает мотивы всезнания, всемогущества и т.п., блокируя возможность советов, наставлений, рекомендаций, сбора анамнеза и других неадекватных духу всякой индирективной психотерапии действий. Наконец, влияние оператора понимания на терапевтические отношения заключается в таком их ролевом структурировании, при котором терапевт занимает вторичную позицию сопереживающего слушателя, диалогического Ты, по отношению к которому клиент обретает достоинство диалогического Я и статус автора повествования (а не одного из прототипов или персонажей своего рассказа).
Носитель убеждения (Р1) — это репрезентант пациента (или какой-то его ипостаси) во фразе терапевта, которому приписывается функция субъекта и выразителя некого убеждения, в отличие, например, от эмпатической реплики, где аналогичному элементу придается статус носителя переживания (подробно о возможностях варьирования этого элемента терапевтической реплики см. [5]).
Модус убеждения. Данный элемент определяется двумя аспектами — степенью и качеством. Возьмем условный пример. На жалобу родителя, выражающего беспокойство о будущем сына, который слишком большое внимание уделяет своей внешности, следует майевтический ответ:
(1) Т(М)2: Насколько я понимаю, вы убеждены, что нельзя быть дельным человеком и думать о красе ногтей.
______________________________
2Каждая реплика в статье кодируется так: число в скобках — порядковый номер реплики; далее — ее автор: Т — психотерапевт, П — пациент, клиент; последний элемент, буква в скобках — тип терапевтической реплики: М — майевтика, Э — эмпатия, К — кларификация, М+Э — сочетание майевтики и эмпатии.
______________________________
Модус убеждения мог бы измениться в сторону усиления:
(2) Т(М): Насколько я понимаю, вы абсолютно уверены, что нельзя быть дельным человеком и думать о красе ногтей.
В следующем примере модус убеждения, напротив, ослаблен по сравнению с (1) и по-другому описан носитель убеждения (Р1):
(3) Т(М): Насколько я понимаю, вы как опытный человек склонны полагать, что…
Модус убеждения может носить отрицательный характер, что требует, конечно, соответствующей корректировки «знака» суждения:
(4) Т(М): Насколько я понимаю, вы не уверены в том, что молодой человек, который так увлечен своей внешностью, способен хоть чего-нибудь путного добиться в жизни.
Модус убеждения может иметь как статический, так и процессуально-деятельностный характер, например, можно сказать «вы убеждены», а можно — «вы пришли к убеждению», «ваш опыт доказывает, что…», «вы приходите к выводу, что...». Протагонист убеждения (в структуре майевтической реплики он условно обозначается как Р2) репрезентирует «главного героя» убеждения. И по форме, и по сути персона Р2 отличается от персоны Р1 — носителя убеждения.
(5) П: Сейчас я уделяю жене и детям слишком мало времени, и меня преследует тревога, что в скором будущем это может привести к каким-то необратимым последствиям.
(6) Т (М): Правильно ли я понимаю, что вы как предусмотрительный человек считаете, что глава семьи должен проводить с женой и детьми не меньше определенного количества часов в неделю, чтобы гарантировать стабильность семейной жизни?
В этой реплике проблематизируется убежденность в том, что семейное благополучие может быть обеспечено количеством времени, проведенным в кругу семьи. Квалификация Р1 (носителя убеждения) как «предусмотрительного человека», с одной стороны, позитивно переформулирует тревожное состояние клиента (здоровая предусмотрительность и невротическое ожидание неопределенных несчастий — вовсе не одно и то же), а с другой — бросает иронический вызов его формальной расчетливости. Несколько высокопарное именование Р2, протагониста убеждения, «главой семьи» также дает шанс клиенту сделать предметом рефлексии свое формально-ролевое отношение к семейной жизни. Потенциальный отклик клиента на эту майевтическую фразу — акт рефлексии, дифференцирующий проблему количества времени и вопрос о качестве семейных отношений.
Во всяком случае, этот пример показывает, что Р1 и Р2 могут и по смыслу, и по лексическому обозначению не совпадать между собой.
Различие Р1 и Р2 в майевтической реплике нередко выявляет внутреннюю систему отношений между субличностями в личности клиента.
(7) П: Я слишком много времени провожу в бесплодных мечтаниях.
(8) Т (М): Вы словно строгий родитель внушаете себе: тот, кто хочет в жизни добиться успеха, не должен ни одной минуты провести зря.
Р1, «строгий родитель», навязывает своему «ребенку» честолюбивый идеал, выраженный в образе Р2 — «того, кто хочет в жизни добиться успеха». Само убеждение акцентирует ригористические условия достижения этого идеала. Реконструируя в таком гипертрофированном виде основания жалобы, терапевт предоставляет клиенту возможность рефлексивного исследования своей системы ценностей и ее источника. Такого рода психодраматический шарж вовсе не претендует на точное реалистическое отображение внутренних предпосылок жалобы, его задача другая — заострить характерные черточки личной аксиологии пациента, ограничиваясь лишь пределами логической оправданности. Реконструируемая аксиоматика должна предложить не истинное, а лишь логически непротиворечивое объяснение, почему реальность, излагаемая клиентом, стала для него поводом для жалобы. А уж дальше — слово за рефлексией самого клиента.
Модальность — чрезвычайно важный элемент и инструмент майевтики. Начнем с примеров использования этого инструмента:
(9) П: Я очень неуверенно чувствую себя, когда нужно к кому-нибудь обращаться за помощью.
Вот некоторые из вариантов майевтических ответов на эту реплику, взятые из студенческих работ, в которых подчеркнута определенная модальность:
(10) Т(М): Правильно ли я понимаю, что вы всегда и везде, при любых ситуациях должны чувствовать себя уверенно.
(11) Т(М): Правильно ли я понимаю, что вы убеждены в том, что только уверенный в себе человек имеет право обращаться за помощью.
(12) Т(М): Правильно ли я понимаю, что вы считаете, что чувство неуверенности непозволительно для человека в такой ситуации.
(13) Т(М): Правильно ли я понимаю, что, по вашему мнению, ситуация обращения за помощью не является таким событием, на которое нормальному человеку обязательно нужно реагировать смущением и неуверенностью.
Примеры показывают, как майевтика использует все разнообразие модальностей.
В связи с этим можно сформулировать несколько теоретических соображений о психотерапевтической работе с модальностями. Наиболее подробно и систематически работа с убеждениями клиента изучена в когнитивной психотерапии А. Бека [15] и рационально-эмотивной психотерапии А. Эллиса [16]. В обеих терапевтических школах особый акцент делается на модальности долженствования. Психотерапия вообще, надо заметить, с большим подозрением относится к этой установке сознания, рассматривая долженствование как потенциально патогенный фактор. Корень этого подозрения в романтическом противопоставлении природы и культуры, которое было воспринято ранним психоанализом [13]. Долг, соответственно, мыслился как представленная в сознании человека форма насилия и принуждения со стороны культуры.
Думается, однако, что долженствование неправомерно заняло особое положение в психотерапевтическом мышлении и несправедливо считается особо вредоносной модальностью. Как показывает опыт детской психологии и психотерапии, всякое регулирующее действие взрослого по отношению к ребенку (и требующее, и запрещающее, и позволяющее) может оказаться как вредным, так и полезным для его развития. Например, попустительский стиль воспитания чрезмерно культивирует модальность позволенности, и это с тем же успехом может привести к нарушениям развития, что и чрезмерные ограничения, делающие ставку на модальность запрещенности.
Ребенок должен освоить всю «модальную логику» управления своим поведением. И в ходе этого освоения возможны искажения, связанные с системой воспитания, характерологическими особенностями родителей, их ценностно-нормативными убеждениями, которые они пытаются привить ребенку. В психотерапевтической практике приходится встречаться со всем набором подобных искажений.
Кроме того, что модальная система сознания может быть искажена, она обладает довольно большой степенью инертности, так что и адекватные убеждения, освоенные в одном возрасте и в одной жизненной ситуации, со временем могут стать неадекватны новой жизненной реальности, но тем не менее продолжают определять желательность, запретность, обязательность и т.д. действий, чувств
или отношений. При этом сами убеждения не становятся обычно предметом обдумывания, поскольку остаются в положении плацдарма, позиции, с которой ведется рассмотрение и оценка жизненных обстоятельств. Поэтому они часто выпадают из поля зрения человека, находящегося в кризисе.
Майевтика, подчеркивая, иногда даже гиперболизируя модальности действий, чувств и отношений клиента, позволяет его рефлексии вывести свои ценности, нормы и убеждения из зоны слепого пятна и по-новому взглянуть на них. В результате этой ревизии старые ценности могут остаться и неизменными, но теперь они окажутся осознанными и ответственно принятыми личностью именно как свои.
Общая структура майевтической реплики терапевта включает в себя следующие элементы: 1) оператор понимания; 2) носитель убеждения (Р1); 3) модус убеждения; 4) убеждение; 5) Другой. Центральный элемент, «убеждение», состоит, в свою очередь, из трех основных частей: протагонист (Р2), модальность, суждение. В таблице дан условный пример майевтической реплики.
На практике майевтические реплики психотерапевта не обязательно должны сохранять полную структуру. Для достижения майевтического эффекта, т.е. стимуляции рефлексивного уровня в работе переживания клиента, иногда достаточно очень лаконичных средств.
Рассмотрим на конкретных примерах1, как могут меняться различные элементы структуры майевтической реплики терапевта и каковы потенциальные функции этих вариаций для различных аспектов терапевтического процесса.
______________________________
1Большинство примеров — фрагменты из тренировочных студенческих работ, в которых отрабатывалась формальная техника понимающей психотерапии в отвлечении от реального психотерапевтического контекста.
______________________________
Оператор понимания и носитель убеждения. Эти структурные элементы майевтики, а также их вариации и функции принципиально не отличаются от аналогичных элементов структуры эмпатии [5]. Приводим здесь их краткое изложение.
Оператор понимания (т.е. слова «правильно ли я вас понимаю», «так ли я понял» и т.п.) выполняет различные функции по отношению к разным фигурам психотерапевтической ситуации. По отношению к клиенту функция оператора понимания состоит в «сообщении» ему, что именно он является инициативным субъектом терапевтического процесса, берущим на себя ответственность за прояснение и решение проблемы. По отношению к терапевту оператор понимания несет важную функцию диалогического кенозиса, самоумаления, профилактически ограничивает мотивы всезнания, всемогущества и т.п., блокируя возможность советов, наставлений, рекомендаций, сбора анамнеза и других неадекватных духу всякой индирективной психотерапии действий. Наконец, влияние оператора понимания на терапевтические отношения заключается в таком их ролевом структурировании, при котором терапевт занимает вторичную позицию сопереживающего слушателя, диалогического Ты, по отношению к которому клиент обретает достоинство диалогического Я и статус автора повествования (а не одного из прототипов или персонажей своего рассказа).
Носитель убеждения (Р1) — это репрезентант пациента (или какой-то его ипостаси) во фразе терапевта, которому приписывается функция субъекта и выразителя некого убеждения, в отличие, например, от эмпатической реплики, где аналогичному элементу придается статус носителя переживания (подробно о возможностях варьирования этого элемента терапевтической реплики см. [5]).
Модус убеждения. Данный элемент определяется двумя аспектами — степенью и качеством. Возьмем условный пример. На жалобу родителя, выражающего беспокойство о будущем сына, который слишком большое внимание уделяет своей внешности, следует майевтический ответ:
(1) Т(М)2: Насколько я понимаю, вы убеждены, что нельзя быть дельным человеком и думать о красе ногтей.
______________________________
2Каждая реплика в статье кодируется так: число в скобках — порядковый номер реплики; далее — ее автор: Т — психотерапевт, П — пациент, клиент; последний элемент, буква в скобках — тип терапевтической реплики: М — майевтика, Э — эмпатия, К — кларификация, М+Э — сочетание майевтики и эмпатии.
______________________________
Модус убеждения мог бы измениться в сторону усиления:
(2) Т(М): Насколько я понимаю, вы абсолютно уверены, что нельзя быть дельным человеком и думать о красе ногтей.
В следующем примере модус убеждения, напротив, ослаблен по сравнению с (1) и по-другому описан носитель убеждения (Р1):
(3) Т(М): Насколько я понимаю, вы как опытный человек склонны полагать, что…
Модус убеждения может носить отрицательный характер, что требует, конечно, соответствующей корректировки «знака» суждения:
(4) Т(М): Насколько я понимаю, вы не уверены в том, что молодой человек, который так увлечен своей внешностью, способен хоть чего-нибудь путного добиться в жизни.
Модус убеждения может иметь как статический, так и процессуально-деятельностный характер, например, можно сказать «вы убеждены», а можно — «вы пришли к убеждению», «ваш опыт доказывает, что…», «вы приходите к выводу, что...». Протагонист убеждения (в структуре майевтической реплики он условно обозначается как Р2) репрезентирует «главного героя» убеждения. И по форме, и по сути персона Р2 отличается от персоны Р1 — носителя убеждения.
(5) П: Сейчас я уделяю жене и детям слишком мало времени, и меня преследует тревога, что в скором будущем это может привести к каким-то необратимым последствиям.
(6) Т (М): Правильно ли я понимаю, что вы как предусмотрительный человек считаете, что глава семьи должен проводить с женой и детьми не меньше определенного количества часов в неделю, чтобы гарантировать стабильность семейной жизни?
В этой реплике проблематизируется убежденность в том, что семейное благополучие может быть обеспечено количеством времени, проведенным в кругу семьи. Квалификация Р1 (носителя убеждения) как «предусмотрительного человека», с одной стороны, позитивно переформулирует тревожное состояние клиента (здоровая предусмотрительность и невротическое ожидание неопределенных несчастий — вовсе не одно и то же), а с другой — бросает иронический вызов его формальной расчетливости. Несколько высокопарное именование Р2, протагониста убеждения, «главой семьи» также дает шанс клиенту сделать предметом рефлексии свое формально-ролевое отношение к семейной жизни. Потенциальный отклик клиента на эту майевтическую фразу — акт рефлексии, дифференцирующий проблему количества времени и вопрос о качестве семейных отношений.
Во всяком случае, этот пример показывает, что Р1 и Р2 могут и по смыслу, и по лексическому обозначению не совпадать между собой.
Различие Р1 и Р2 в майевтической реплике нередко выявляет внутреннюю систему отношений между субличностями в личности клиента.
(7) П: Я слишком много времени провожу в бесплодных мечтаниях.
(8) Т (М): Вы словно строгий родитель внушаете себе: тот, кто хочет в жизни добиться успеха, не должен ни одной минуты провести зря.
Р1, «строгий родитель», навязывает своему «ребенку» честолюбивый идеал, выраженный в образе Р2 — «того, кто хочет в жизни добиться успеха». Само убеждение акцентирует ригористические условия достижения этого идеала. Реконструируя в таком гипертрофированном виде основания жалобы, терапевт предоставляет клиенту возможность рефлексивного исследования своей системы ценностей и ее источника. Такого рода психодраматический шарж вовсе не претендует на точное реалистическое отображение внутренних предпосылок жалобы, его задача другая — заострить характерные черточки личной аксиологии пациента, ограничиваясь лишь пределами логической оправданности. Реконструируемая аксиоматика должна предложить не истинное, а лишь логически непротиворечивое объяснение, почему реальность, излагаемая клиентом, стала для него поводом для жалобы. А уж дальше — слово за рефлексией самого клиента.
Модальность — чрезвычайно важный элемент и инструмент майевтики. Начнем с примеров использования этого инструмента:
(9) П: Я очень неуверенно чувствую себя, когда нужно к кому-нибудь обращаться за помощью.
Вот некоторые из вариантов майевтических ответов на эту реплику, взятые из студенческих работ, в которых подчеркнута определенная модальность:
(10) Т(М): Правильно ли я понимаю, что вы всегда и везде, при любых ситуациях должны чувствовать себя уверенно.
(11) Т(М): Правильно ли я понимаю, что вы убеждены в том, что только уверенный в себе человек имеет право обращаться за помощью.
(12) Т(М): Правильно ли я понимаю, что вы считаете, что чувство неуверенности непозволительно для человека в такой ситуации.
(13) Т(М): Правильно ли я понимаю, что, по вашему мнению, ситуация обращения за помощью не является таким событием, на которое нормальному человеку обязательно нужно реагировать смущением и неуверенностью.
Примеры показывают, как майевтика использует все разнообразие модальностей.
В связи с этим можно сформулировать несколько теоретических соображений о психотерапевтической работе с модальностями. Наиболее подробно и систематически работа с убеждениями клиента изучена в когнитивной психотерапии А. Бека [15] и рационально-эмотивной психотерапии А. Эллиса [16]. В обеих терапевтических школах особый акцент делается на модальности долженствования. Психотерапия вообще, надо заметить, с большим подозрением относится к этой установке сознания, рассматривая долженствование как потенциально патогенный фактор. Корень этого подозрения в романтическом противопоставлении природы и культуры, которое было воспринято ранним психоанализом [13]. Долг, соответственно, мыслился как представленная в сознании человека форма насилия и принуждения со стороны культуры.
Думается, однако, что долженствование неправомерно заняло особое положение в психотерапевтическом мышлении и несправедливо считается особо вредоносной модальностью. Как показывает опыт детской психологии и психотерапии, всякое регулирующее действие взрослого по отношению к ребенку (и требующее, и запрещающее, и позволяющее) может оказаться как вредным, так и полезным для его развития. Например, попустительский стиль воспитания чрезмерно культивирует модальность позволенности, и это с тем же успехом может привести к нарушениям развития, что и чрезмерные ограничения, делающие ставку на модальность запрещенности.
Ребенок должен освоить всю «модальную логику» управления своим поведением. И в ходе этого освоения возможны искажения, связанные с системой воспитания, характерологическими особенностями родителей, их ценностно-нормативными убеждениями, которые они пытаются привить ребенку. В психотерапевтической практике приходится встречаться со всем набором подобных искажений.
Кроме того, что модальная система сознания может быть искажена, она обладает довольно большой степенью инертности, так что и адекватные убеждения, освоенные в одном возрасте и в одной жизненной ситуации, со временем могут стать неадекватны новой жизненной реальности, но тем не менее продолжают определять желательность, запретность, обязательность и т.д. действий, чувств
или отношений. При этом сами убеждения не становятся обычно предметом обдумывания, поскольку остаются в положении плацдарма, позиции, с которой ведется рассмотрение и оценка жизненных обстоятельств. Поэтому они часто выпадают из поля зрения человека, находящегося в кризисе.
Майевтика, подчеркивая, иногда даже гиперболизируя модальности действий, чувств и отношений клиента, позволяет его рефлексии вывести свои ценности, нормы и убеждения из зоны слепого пятна и по-новому взглянуть на них. В результате этой ревизии старые ценности могут остаться и неизменными, но теперь они окажутся осознанными и ответственно принятыми личностью именно как свои.
Суждение. Если при эмпатии психотерапевт выслушивает непосредственное переживание, которое стоит за словами клиента, если предметом кларификации является объект жизненного мира клиента и его действия, то майевтика вычитывает из слов клиента некое суждение о мире, которое существенно определяет ход работы переживания, чаще всего — тормозит развитие переживания.
«Испытуемый переформулирует условия задачи к своей невыгоде» — закономерность, которую К. Дункер [6] усмотрел в решении творческих задач, — справедлива и для переживания жизненных проблем. Кризисная экзистенциальная ситуация пациента безысходна, но безысходность ее отчасти зависит от определенных внутренних условий — притязаний, установок, ценностей, принципов, привычек, правил, ограничений, норм и т.п., которые принимаются им как самоочевидные и непреложные. Майевтика призвана проблематизировать эти «очевидности», поставить их под вопрос. Она не создает твердую почву под ногами процесса переживания, как, например, кларификация, она эту почву вспахивает, переворачивает ее пласты, выбивает переживание из привычного русла.
Предметом майевтической проблематизации становится, как мы видели, внутреннее убеждение пациента, которое раз за разом, оставаясь в тени, вне фокуса сознания, ограничивает процесс его творческого переживания. Пациент вроде бы продвигается вперед, меняются темы и сюжеты обсуждения, перед глазами терапевта проходят, казалось бы, новые ландшафты жизненного мира пациента, но в какой-то момент становится ясно, что новизна эта мнимая, что переживание, словно на привязи, ходит кругами вокруг невидимого колышка.
Думалось, что ограничения и тупики — в самом рельефе жизненного мира клиента, что они — впереди, заслоняют взгляд и преграждают путь, а они — позади, в прошлом, и потому невидимы. Обернуться назад, увидеть этот злополучный колышек, освободиться от привязи — вот миссия процессов рефлексивного уровня, стимуляции которых служит майевтика. Однако может пройти немало терапевтического времени, прежде чем признаки этого колышка будут замечены терапевтом и сделаются предметом его майевтики.
Майевтическая реплика терапевта — это реакция не только на предшествующую фразу клиента, но и на всю развернувшуюся к данному моменту смысловую картину его жизненного мира. Однако для отработки психотерапевтической техники необходимо абстрагироваться от широкого смыслового горизонта и сосредоточиться на формально-логическом выборе предмета майевтической проблематизации в пределах отдельной реплики клиента.
В качестве такового может выступать любой элемент или аспект реплики — от отдельного слова или понятия до логической связи разных частей его высказывания и жанровых характеристик речи.
Обратимся к варианту уже звучавшей реплики клиента (7):
(14) П: Я слишком много времени провожу в бесплодных мечтаниях вместо того, чтобы заняться реальным делом.
(15) Т (М): Так ли я понимаю, что в вашей «внутренней канцелярии» есть нормативы времени на всякие занятия, и в графе «бесплодные мечтания» числится совсем маленькая цифра?
Такая майевтическая реплика высвечивает для рефлексии клиента убеждение, стоящее за фрагментом его фразы «слишком много времени». Однако нетрудно предложить для рефлексивной проработки и любой другой фрагмент исходной реплики. Например, устойчивый речевой штамп «бесплодные мечтания», закрепляющий за мечтанием как таковым негативные коннотации, может быть раскрыт для рефлексии клиента следующей майевтической репликой.
(16) Т (М): Верно ли мне удалось уловить, что вы считаете мечты допустимыми, только если они приносят какие-то плоды?
Майевтика может проблематизировать не только содержательные компоненты высказывания, но и его формальную логико-грамматическую структуру. Это важная способность майевтики, поскольку самому клиенту трудно заметить необязательность логических связок и соединений между разными частями его рассуждений, а именно они образуют логическую канву работы переживания.
В приведенной выше фразе клиента такая связка представлена словом «вместо». Реплика (14) может быть записана в «алгебраическом виде» таким образом:
П: Я слишком много А вместо В, где А — «мечтать», а В — «заниматься реальным делом».
Логической противоположностью понятия «вместо» являются категории совместности, одновременности, в свете которых А и В раскрываются не как взаимоисключающие альтернативы, но как вещи совместимые, способные на мирное сосуществование или даже сотрудничество. С учетом этой оппозиции в алгебраической форме майевтика может звучать таким образом:
(17) Т (М): Правильно ли я понял: вы убеждены, что А невозможно совместить с В, а уж тем более немыслимо, чтобы А помогало В?
Такая реплика выявляет и заостряет убеждение, стоящее за словом «вместо», но делает это через отрицание его противоположности, тем самым фокусируя внимание на самой логической конструкции и одновременно вводя в поле сознания потенциальные альтернативы.
Если подставить в приведенную «алгебраическую» майевтику значения А и В (несколько их модифицировав), то в развернутом виде она могла бы звучать, например, так:
(18) Т (М): Правильно ли я понял: вы убеждены, что мечта несовместима с делом, а уж тем более немыслимо, чтобы она могла реальному делу хоть чем-то помочь?
Это пример «алгебраического» объяснения майевтической работы с простейшей логической связкой. Однако майевтическая алгебра нужна не только как способ объяснения логики работы психотерапевта, но в первую очередь как способ и инструмент самой этой работы. Дело в том, что на практике речь клиента, а значит, и стоящее за ней переживание, бывают сложны и запутаны, и тогда для майевтической проблематизации логических связей и переходов в высказывании клиента терапевту необходим метод «структурно-алгебраического» слушания. Этот метод заключается в сосредоточении не столько на содержательных и эмоциональных аспектах речи клиента, сколько на ее формально-логических схемах, что обеспечивает «экономию мышления» терапевта, равно как и экономию его внимания и памяти.
Содержание речи клиента перерабатывается в майевтике с помощью различных логических и риторических операций. Вернемся к примеру (5) реплики клиента, беспокоящегося о семейном благополучии.
Логическая структура высказанного в этой фразе суждения такова:
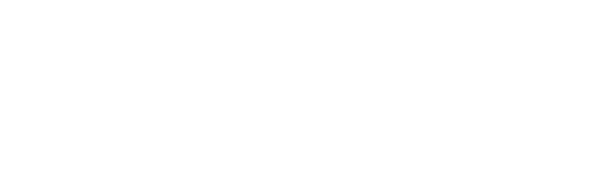
где А — недостаточность времени, уделяемого семье, В — необратимые последствия в будущем, С — причинная связь.
(5) П: Сейчас (А) я уделяю жене и детям слишком мало времени, и меня преследует тревога, что в скором будущем это (С) может привести (В) к каким-то необратимым последствиям.
Майевтика терапевта (19) воспроизводит ту же логическую конструкцию, лишь рельефнее проявляя ее и придавая всему сообщению статус сознательного суждения. Однако, сохраняя конструкцию, терапевт вовсе не сохраняет в неприкосновенности содержание каждого из ее элементов, а перерабатывает их, добиваясь майевтического эффекта.
(19) Т (М): Правильно ли я понимаю, что вы как предусмотрительный человек считаете, что глава семьи должен проводить с женой и детьми (Ат) не меньше определенного количества часов в неделю, (СТ) чтобы гарантировать (ВТ) стабильность семейной жизни?
В реплике терапевта каждый элемент претерпевает существенные преобразования. Если во фрагменте А клиент выражает свое эмоциональное отношение к факту недостаточности времени, которое он уделяет семье, — сожаление, то в АТ (отражение этого элемента в высказывании терапевта — «не меньше определенного количества часов») терапевт вычитывает из данного компонента жалобы не эмоциональный смысл, а буквалистскую формально-количественную оценку факта, как если бы сообщение клиента было началом деловых расчетов. Если связка С носит вероятностный характер — «может привести», то во фрагменте реплики терапевта СТ связь приобретает обязательный характер — «гарантирует». Наконец, пессимистический элемент В — «необратимые последствия» в соответствующем элементе терапевтической реплики ВТ инвертируется в подозрительно оптимистическую «стабильность семейной жизни». Все эти и многие другие приемы («буквализация», амплификация, инвертирование, обобщение, абстрагирование, гиперболизация и т.д.) постоянно используются в психотерапевтической майевтике для переработки как содержания, так и логики высказываний клиента.
Майевтическое понимание — нарочито неточное понимание, оно сдвигает устойчивые, привычные для пациента значения и смыслы, создавая смысловой зазор между сообщением пациента и фразой терапевта. Майевтика удивляет пациента. Этот зазор, семантическая дельта понимания/непонимания — «приманка» для рефлексии. Пациент слышит, что его поняли, но чувствует, что поняли не совсем точно, с каким-то странным сдвигом, у него не совсем такие убеждения, как их формулирует терапевт. Непонимание в процессе психотерапии обычно вызывает у клиента раздражение или угнетение коммуникативно-речевой инициативы, недопонимание же, находящееся в зоне близкой к точному пониманию, стимулирует его к рефлексии, уточнению, более отчетливой формулировке. Ясно, что эти рефлексивные акты не просто обслуживают коммуникацию клиента с терапевтом, они осуществляют важную часть работы его переживания.
В борьбе за обновление смыслов в терапевтической майевтике зачастую используется эстетика абсурда, в ней нередко присутствует игровой и юмористический тон, но при этом настоящая ее направленность — философская. Майевтика помогает клиенту осознать и выразить свою личную жизненную философию, освободиться от ложных и застарелых штампов. Психотерапевт при этом должен избегать опасности «заиграться», скатиться в сарказм, софистику или спор, поиск победы в логическом состязании, а не истины. Стратегическая задача майевтики состоит не в переубеждении и логическом принуждении, а — в соответствии с исходным смыслом термина — в том, чтобы помочь клиенту родить истину.
Другой. Семантический сдвиг, который создает майевтика, затрагивает, конечно, и такой важнейший элемент, как внутренний адресат переживания клиента. Нужно сказать, что не только майевтика, но и эмпатия, и кларификация «удивляют» клиента неожиданными диалогическими отношениями, которые ему предлагаются терапевтом взамен тех, на которые клиент неосознанно рассчитывал.
(20) П: Ну вот, меня никто не любит, и это из-за того, что я такая толстая.
Подобная жалоба в обыденном общении подспудно рассчитывает, как правило, на такого Другого, который проявит сочувствие и станет разуверять в основательности подобных выводов («не такая уж и толстая», «не в размерах дело», «почему бы и не полюбить» и т.п.). Общение при этом легко соскальзывает в одну из коммуникативных игр (в смысле Э. Берна), выигрыш в которой для жалующегося будет состоять в доказательстве своей безутешности. Профессиональная терапевтическая коммуникация уклоняется от наивного участия в такого рода манипулятивной игре.
В эмпатическом отклике, например:
(21) Т(Э): Вам одиноко и горько...
Терапевт предстает таким Другим, который занимает позицию эстетической вненаходимости, позицию слушателя, принимающего лирическую исповедь и признающего трагизм бытия как род самодостаточной душевной реальности, а не как «недород» или патологию счастья. В самом деле, не станет же слушатель перебивать поэта после его слов «уж не жду от жизни ничего я» горячими убеждениями, что жизнь прекрасна и все еще впереди.
Кларификация, в отличие от эмпатии, чаще всего предлагает другие ролевые отношения, а именно — участников совместного исследования реальности. Терапевт готов вместе с пациентом пристально вглядываться в описываемую им реальность, уточнять детали, искать новые ракурсы рассмотрения, добиваться точности отображения и тем самым все более ясного понимания реальности. Соответственно, кларификация позиционирует пациента как исследователя (не обязательно ученого, это может быть художественное исследование реальности), а самого психотерапевта — или как его пытливого ученика, или как методолога, понуждающего исследователя поверять свои методы и выводы. Например:
(22) Т (К): Вы оглядываете внутренним взором многих людей, каким-то способом оцениваете, что они вас не любят, и приходите к выводу, что причина этого в вашей полноте.
Этот вариант кларификации особенно подчеркивает процедурные моменты «исследования» — «оглядываете», «каким-то способом оцениваете», «приходите к выводу». Слушая такой пересказ своего сообщения, пациент опознает все эти действия как свои акты и может занять предполагаемую этими актами внутреннюю позицию субъекта как исследователя реальности вместо изначальной позиции жертвы неприязненного отношения окружающих.
При использовании майевтики, в отличие от эмпатии и кларификации, психотерапевта интересует не эмоциональное отношение клиента к ситуации, не образ самой этой ситуации в сознании клиента, а та «философия», та внутренняя модель, которая во многом их и предопределяет. Таким интересом диктуются и типичные для майевтики ролевые отношения.
(23) Т(М): Верно ли будет сказать, что, по вашей «теории», люди любят друг друга по определенным и понятным причинам, что это дело рациональное?
Когда терапевт говорит такую реплику, он утверждает клиента в позиции «философа», человека, имеющего мировоззрение, и сам занимает также особую философскую, «сократическую» позицию, которая отличается неангажированностью, неидеологичностью, отсутствием желания провести определенную линию, «поиска своего». В сократической позиции терапевта содержится предельная открытость к чужой мысли, но вовсе не готовность потакать любому мнению. Мысли клиента дается широчайшее право быть, но от нее также и многое требуется — интеллектуальная честность, мужество доводить свои выводы до конца и экзистенциальная ответственность, решимость воплощаться в жизни.
Внутренний диалогический посыл переживания клиента может быть ориентирован на любые фигуры — Справедливого Родителя, Заботливую Бабушку, Закадычного Друга, Доброго Волшебника и т.д., и все эти диалогические установки должны быть расслышаны и так или иначе вовлечены в терапевтический процесс, так что в тот или иной момент клиент сможет почувствовать себя ребенком, внуком, приятелем или героем сказки. Однако это — на уровне терапевтической игры, на уровне актуализации внутренних персонажей и субличностей, на уровне же личностного диалога в понимающей психотерапии поддерживается занятие клиентом такой позиции, в которой он станет «поэтом» своего переживания, «исследователем» или «философом». Последняя из этих позиций — диалогическая доминанта майевтики.
Самое важное, что дает коммуникативно-ролевой анализ, это несовпадение скрытых ожиданий клиента и реально осуществляемых отношений. Дистанция между ними является важным стимулом для рефлексии клиента и вообще для развития его внутренней культуры переживания. Эта дистанция не может быть ни слишком мала, ни слишком велика, но должна быть оптимальной и создавать зону ближайшего развития переживания.
Майевтическая работа с элементом Другой неотделима от проработки терапевтических отношений. Это большая самостоятельная тема, которая в психотерапевтической литературе обсуждается в рубрике терапевтической техники работы с переносными отношениями. Специфика этой фокусировки майевтики заключается в том, что предметом рефлексии становятся не столько убеждения пациента, сколько его ожидания от тех или иных отношений, порой весьма нереалистичные, связанные с «частичным переносом» [14].
Приведем пример. В конце сеанса детско-родительской терапии пациентка, мать пятилетней девочки, испытывая порыв признательности к женщине-терапевту, говорит:
(24) П: Я вам так благодарна! Будем вместе тянуть дочку, да?
Это пример довольно острой, опасной для терапевтических отношений ситуации. Проигнорировать такое послание нельзя, но и сколько-нибудь жесткая майевтическая коррекция типа:
(25) Т (М): Насколько я понимаю, вы полагаете, что для воспитания лучше всего, если мать передаст половину своей ответственности специалисту?
также недопустима, потому что превышает пределы толерантности клиента. В таких случаях требуется очень мягкая майевтика — в сочетании и под управлением эмпатии. Например:
(26) Т (М): Насколько я понимаю, вы хотите быть уверенной, что не останетесь одна в заботе о дочке?
(26) Т (Э+М): Вы так устали от слишком долгих попыток бороться в одиночку и так рады, что наконец-то можно разделить с другим человеком вашу тревогу, что вам подумалось: «Лучше бы она была не психологом, а моей сестрой, и тогда мы вместе стали бы воспитывать девочку».
В данном случае майевтика выполняет не только функцию участия в переживании клиента, но и функцию структурирования терапевтических отношений.
ИНТЕНСИВНОСТЬ МАЙЕВТИЧЕСКОЙ РЕПЛИКИ
Майевтические реплики, как показывают предыдущие примеры, могут различаться по интенсивности и быть более мягкими и, напротив, более резкими, порой подходя вплотную к границам иронии или даже сарказма. Чем ближе к этим опасным для базовой понимающей установки границам, тем больше в майевтике звучит собственная оценка терапевта, его несогласие, несолидарность с убеждениями клиента, и тем больше риск соскакивания терапевтического диалога в непродуктивные режимы спора или переубеждения. Мягкие формы майевтики зачастую приближаются по своему реальному влиянию к эмпатическим или проясняющим репликам, не активируя рефлексивной работы сознания.
Управление интенсивностью — важный компонент майевтической работы. Технически изменение интенсивности майевтической реплики достигается прежде всего благодаря варьированию силы или степени выраженности многих из обсуждавшихся выше структурных элементов. Можно сказать «вы предполагаете», а можно «вы абсолютно убеждены», можно сказать «вы должны», а можно «вы обязаны». Вот утрированный пример очень интенсивной майевтики:
(27) Т (М): Вы абсолютно убеждены, что обязаны во что бы то ни стало буквально каждую секунду своей жизни посвящать самосовершенствованию.
ВЛИЯНИЕ МАЙЕВТИКИ
Каково влияние майевтики на целостный процесс переживания клиента? У всякого психологического процесса есть своя инерция [1]. Работа переживания — не исключение. В удачном психотерапевтическом процессе происходит интенсификация процессов переживания — человек начинает более энергично, более концентрированно размышлять о кризисной ситуации, живее и ярче вчувствоваться в нее, полнее вникать в открывающиеся внутреннему взору смыслы.
Обычно одной интенсификацией дело переживания не решается, поскольку сам этот процесс может быть «нездоров», может ходить ложными путями, попадать в тупики и ловушки. Переживание в конечном счете есть творчество. Ситуацию невозможности без творческого акта не разрешить.
Поэтому и сопереживание как психологическая помощь в работе переживания является творчеством, не сводимым до конца к методическим алгоритмам и техническим приемам. Психологические исследования творчества [7] показывают, что динамика творческого процесса отнюдь не равномерна, в ней есть свои «мертвые зоны», свои остановки, которые самому субъекту кажутся бесплодными простоями, но благодаря которым происходит аккумуляция смыслов, созревание семян будущих инсайтов и интеллектуальных прорывов.
С учетом этих закономерностей тактика помощи творческому продуктивному переживанию состоит не просто в поддержке, ускорении и интенсификации всех процессов, входящих в переживание. Порой переживанию нужна остановка, перемена направления, переход в новую плоскость. Суть психотерапевтической майевтики и заключается в искусстве остановки переживания, преодолении его инерции, смене устоявшихся маршрутов и привычных ходов.
Эти выкладки позволяют проблематизировать идею фасилитации [12] как не только главной, но по существу единственной стратегии всякой индирективной психотерапии. Творческое сопереживание не сводится к фасилитации любых процессов переживания. Его можно уподобить дирижированию, которое, по мысли О. Мандельштама, является, прежде всего, слушанием, а не управлением, но в то же время оно остается не потакающим, а требовательным, взыскательным слушанием.
Подобным образом и психотерапевтическое сопереживание, оставаясь процессом индирективным, вовсе не является безвольно следующим за любыми поверхностными течениями переживания клиента. Сопереживающее понимание стремится к углубляющемуся вслушиванию в те, еще только намечающиеся, только завязывающиеся линии переживания, у которых пока не хватает силы, чтобы самим выиграть конкурентную борьбу у других, уже давно устоявшихся процессов, но есть своя смысловая правда, которая нуждается в признании и бережном выращивании.
Как в эмпирическом психотерапевтическом процессе клиенты воспринимают майевтические включения терапевта? Приведем краткий анализ самоотчетов участников учебной психотерапевтической мастерской, которым было предложено после небольших терапевтических этюдов записать полученные в клиентской позиции впечатления о влиянии на них метода майевтики.
Непосредственная реакция клиента на майевтическую реплику терапевта чаще всего описывается как шоковая. Майевтика воспринимается как «странная», «неожиданная», впечатление от нее «очень яркое», сравнимое с «холодным душем», «ударом в лоб», «потерей почвы под ногами», «как бы до этого гладили по шерстке, а тут вдруг против». Этот шок сначала вызывает паузу, остановку мыслительных процессов («надолго замолкла», «время обдумывания ответа увеличивалось», «трудно было упорядочить мысли»), а затем происходит улучшение качества мышления, мысль заостряется, приобретает апперцептивный характер («мысли делаются ясными и прозрачными»).
Изменяется и отношение к собственному слову — оно становится «серьезным», «ответственным», «вдумчивым». Все это позволяет клиенту достичь более глубокого, сущностного понимания жизненной ситуации (в самоотчетах много раз встречаются метафоры «глубины», «проникновения в суть проблемы» и т.п.).
При этом вскрытые майевтикой пласты опыта вызывают у клиента двойственное отношение — с одной стороны, возникает «желание закрыться», «попытка отрицать», «поиск отговорок», с другой — «решимость отказаться от прежней позиции», «потребность пересмотреть взгляды» и т.п. «Майевтика сначала отторгается, воспринимается раздраженно, — пишет одна из участниц мастерской, — но потом, после размышлений, оказывается ключевой для понимания происходящего».
В отчетах отмечается также влияние майевтики на ход всего терапевтического процесса — «повысился тонус беседы», «майевтические реплики оказывались поворотными, продвигали сеанс, углубляли его», «процесс терапии стал продуктивнее» и т.п.
Таким образом, майевтика является необходимым элементом в системе методов, реализующих понимающее сопереживание, благодаря своей направленности на стимуляцию рефлексивных процессов и способности «останавливать» и углублять процесс переживания клиента.
Заслуга введения в нашу психологическую и психотерапевтическую литературу проблемы майевтики принадлежит А.А. Пузырею ([10], [11]), который рассматривает майевтику как стратегию высвобождения творческого личностного опыта пациента в противовес манипулятивным стратегиям психотерапевтической работы. В понимающей психотерапии эти идеи А.А. Пузырея развиваются на операционально-методическом уровне.
ЛИТЕРАТУРА
(5) П: Сейчас (А) я уделяю жене и детям слишком мало времени, и меня преследует тревога, что в скором будущем это (С) может привести (В) к каким-то необратимым последствиям.
Майевтика терапевта (19) воспроизводит ту же логическую конструкцию, лишь рельефнее проявляя ее и придавая всему сообщению статус сознательного суждения. Однако, сохраняя конструкцию, терапевт вовсе не сохраняет в неприкосновенности содержание каждого из ее элементов, а перерабатывает их, добиваясь майевтического эффекта.
(19) Т (М): Правильно ли я понимаю, что вы как предусмотрительный человек считаете, что глава семьи должен проводить с женой и детьми (Ат) не меньше определенного количества часов в неделю, (СТ) чтобы гарантировать (ВТ) стабильность семейной жизни?
В реплике терапевта каждый элемент претерпевает существенные преобразования. Если во фрагменте А клиент выражает свое эмоциональное отношение к факту недостаточности времени, которое он уделяет семье, — сожаление, то в АТ (отражение этого элемента в высказывании терапевта — «не меньше определенного количества часов») терапевт вычитывает из данного компонента жалобы не эмоциональный смысл, а буквалистскую формально-количественную оценку факта, как если бы сообщение клиента было началом деловых расчетов. Если связка С носит вероятностный характер — «может привести», то во фрагменте реплики терапевта СТ связь приобретает обязательный характер — «гарантирует». Наконец, пессимистический элемент В — «необратимые последствия» в соответствующем элементе терапевтической реплики ВТ инвертируется в подозрительно оптимистическую «стабильность семейной жизни». Все эти и многие другие приемы («буквализация», амплификация, инвертирование, обобщение, абстрагирование, гиперболизация и т.д.) постоянно используются в психотерапевтической майевтике для переработки как содержания, так и логики высказываний клиента.
Майевтическое понимание — нарочито неточное понимание, оно сдвигает устойчивые, привычные для пациента значения и смыслы, создавая смысловой зазор между сообщением пациента и фразой терапевта. Майевтика удивляет пациента. Этот зазор, семантическая дельта понимания/непонимания — «приманка» для рефлексии. Пациент слышит, что его поняли, но чувствует, что поняли не совсем точно, с каким-то странным сдвигом, у него не совсем такие убеждения, как их формулирует терапевт. Непонимание в процессе психотерапии обычно вызывает у клиента раздражение или угнетение коммуникативно-речевой инициативы, недопонимание же, находящееся в зоне близкой к точному пониманию, стимулирует его к рефлексии, уточнению, более отчетливой формулировке. Ясно, что эти рефлексивные акты не просто обслуживают коммуникацию клиента с терапевтом, они осуществляют важную часть работы его переживания.
В борьбе за обновление смыслов в терапевтической майевтике зачастую используется эстетика абсурда, в ней нередко присутствует игровой и юмористический тон, но при этом настоящая ее направленность — философская. Майевтика помогает клиенту осознать и выразить свою личную жизненную философию, освободиться от ложных и застарелых штампов. Психотерапевт при этом должен избегать опасности «заиграться», скатиться в сарказм, софистику или спор, поиск победы в логическом состязании, а не истины. Стратегическая задача майевтики состоит не в переубеждении и логическом принуждении, а — в соответствии с исходным смыслом термина — в том, чтобы помочь клиенту родить истину.
Другой. Семантический сдвиг, который создает майевтика, затрагивает, конечно, и такой важнейший элемент, как внутренний адресат переживания клиента. Нужно сказать, что не только майевтика, но и эмпатия, и кларификация «удивляют» клиента неожиданными диалогическими отношениями, которые ему предлагаются терапевтом взамен тех, на которые клиент неосознанно рассчитывал.
(20) П: Ну вот, меня никто не любит, и это из-за того, что я такая толстая.
Подобная жалоба в обыденном общении подспудно рассчитывает, как правило, на такого Другого, который проявит сочувствие и станет разуверять в основательности подобных выводов («не такая уж и толстая», «не в размерах дело», «почему бы и не полюбить» и т.п.). Общение при этом легко соскальзывает в одну из коммуникативных игр (в смысле Э. Берна), выигрыш в которой для жалующегося будет состоять в доказательстве своей безутешности. Профессиональная терапевтическая коммуникация уклоняется от наивного участия в такого рода манипулятивной игре.
В эмпатическом отклике, например:
(21) Т(Э): Вам одиноко и горько...
Терапевт предстает таким Другим, который занимает позицию эстетической вненаходимости, позицию слушателя, принимающего лирическую исповедь и признающего трагизм бытия как род самодостаточной душевной реальности, а не как «недород» или патологию счастья. В самом деле, не станет же слушатель перебивать поэта после его слов «уж не жду от жизни ничего я» горячими убеждениями, что жизнь прекрасна и все еще впереди.
Кларификация, в отличие от эмпатии, чаще всего предлагает другие ролевые отношения, а именно — участников совместного исследования реальности. Терапевт готов вместе с пациентом пристально вглядываться в описываемую им реальность, уточнять детали, искать новые ракурсы рассмотрения, добиваться точности отображения и тем самым все более ясного понимания реальности. Соответственно, кларификация позиционирует пациента как исследователя (не обязательно ученого, это может быть художественное исследование реальности), а самого психотерапевта — или как его пытливого ученика, или как методолога, понуждающего исследователя поверять свои методы и выводы. Например:
(22) Т (К): Вы оглядываете внутренним взором многих людей, каким-то способом оцениваете, что они вас не любят, и приходите к выводу, что причина этого в вашей полноте.
Этот вариант кларификации особенно подчеркивает процедурные моменты «исследования» — «оглядываете», «каким-то способом оцениваете», «приходите к выводу». Слушая такой пересказ своего сообщения, пациент опознает все эти действия как свои акты и может занять предполагаемую этими актами внутреннюю позицию субъекта как исследователя реальности вместо изначальной позиции жертвы неприязненного отношения окружающих.
При использовании майевтики, в отличие от эмпатии и кларификации, психотерапевта интересует не эмоциональное отношение клиента к ситуации, не образ самой этой ситуации в сознании клиента, а та «философия», та внутренняя модель, которая во многом их и предопределяет. Таким интересом диктуются и типичные для майевтики ролевые отношения.
(23) Т(М): Верно ли будет сказать, что, по вашей «теории», люди любят друг друга по определенным и понятным причинам, что это дело рациональное?
Когда терапевт говорит такую реплику, он утверждает клиента в позиции «философа», человека, имеющего мировоззрение, и сам занимает также особую философскую, «сократическую» позицию, которая отличается неангажированностью, неидеологичностью, отсутствием желания провести определенную линию, «поиска своего». В сократической позиции терапевта содержится предельная открытость к чужой мысли, но вовсе не готовность потакать любому мнению. Мысли клиента дается широчайшее право быть, но от нее также и многое требуется — интеллектуальная честность, мужество доводить свои выводы до конца и экзистенциальная ответственность, решимость воплощаться в жизни.
Внутренний диалогический посыл переживания клиента может быть ориентирован на любые фигуры — Справедливого Родителя, Заботливую Бабушку, Закадычного Друга, Доброго Волшебника и т.д., и все эти диалогические установки должны быть расслышаны и так или иначе вовлечены в терапевтический процесс, так что в тот или иной момент клиент сможет почувствовать себя ребенком, внуком, приятелем или героем сказки. Однако это — на уровне терапевтической игры, на уровне актуализации внутренних персонажей и субличностей, на уровне же личностного диалога в понимающей психотерапии поддерживается занятие клиентом такой позиции, в которой он станет «поэтом» своего переживания, «исследователем» или «философом». Последняя из этих позиций — диалогическая доминанта майевтики.
Самое важное, что дает коммуникативно-ролевой анализ, это несовпадение скрытых ожиданий клиента и реально осуществляемых отношений. Дистанция между ними является важным стимулом для рефлексии клиента и вообще для развития его внутренней культуры переживания. Эта дистанция не может быть ни слишком мала, ни слишком велика, но должна быть оптимальной и создавать зону ближайшего развития переживания.
Майевтическая работа с элементом Другой неотделима от проработки терапевтических отношений. Это большая самостоятельная тема, которая в психотерапевтической литературе обсуждается в рубрике терапевтической техники работы с переносными отношениями. Специфика этой фокусировки майевтики заключается в том, что предметом рефлексии становятся не столько убеждения пациента, сколько его ожидания от тех или иных отношений, порой весьма нереалистичные, связанные с «частичным переносом» [14].
Приведем пример. В конце сеанса детско-родительской терапии пациентка, мать пятилетней девочки, испытывая порыв признательности к женщине-терапевту, говорит:
(24) П: Я вам так благодарна! Будем вместе тянуть дочку, да?
Это пример довольно острой, опасной для терапевтических отношений ситуации. Проигнорировать такое послание нельзя, но и сколько-нибудь жесткая майевтическая коррекция типа:
(25) Т (М): Насколько я понимаю, вы полагаете, что для воспитания лучше всего, если мать передаст половину своей ответственности специалисту?
также недопустима, потому что превышает пределы толерантности клиента. В таких случаях требуется очень мягкая майевтика — в сочетании и под управлением эмпатии. Например:
(26) Т (М): Насколько я понимаю, вы хотите быть уверенной, что не останетесь одна в заботе о дочке?
(26) Т (Э+М): Вы так устали от слишком долгих попыток бороться в одиночку и так рады, что наконец-то можно разделить с другим человеком вашу тревогу, что вам подумалось: «Лучше бы она была не психологом, а моей сестрой, и тогда мы вместе стали бы воспитывать девочку».
В данном случае майевтика выполняет не только функцию участия в переживании клиента, но и функцию структурирования терапевтических отношений.
ИНТЕНСИВНОСТЬ МАЙЕВТИЧЕСКОЙ РЕПЛИКИ
Майевтические реплики, как показывают предыдущие примеры, могут различаться по интенсивности и быть более мягкими и, напротив, более резкими, порой подходя вплотную к границам иронии или даже сарказма. Чем ближе к этим опасным для базовой понимающей установки границам, тем больше в майевтике звучит собственная оценка терапевта, его несогласие, несолидарность с убеждениями клиента, и тем больше риск соскакивания терапевтического диалога в непродуктивные режимы спора или переубеждения. Мягкие формы майевтики зачастую приближаются по своему реальному влиянию к эмпатическим или проясняющим репликам, не активируя рефлексивной работы сознания.
Управление интенсивностью — важный компонент майевтической работы. Технически изменение интенсивности майевтической реплики достигается прежде всего благодаря варьированию силы или степени выраженности многих из обсуждавшихся выше структурных элементов. Можно сказать «вы предполагаете», а можно «вы абсолютно убеждены», можно сказать «вы должны», а можно «вы обязаны». Вот утрированный пример очень интенсивной майевтики:
(27) Т (М): Вы абсолютно убеждены, что обязаны во что бы то ни стало буквально каждую секунду своей жизни посвящать самосовершенствованию.
ВЛИЯНИЕ МАЙЕВТИКИ
Каково влияние майевтики на целостный процесс переживания клиента? У всякого психологического процесса есть своя инерция [1]. Работа переживания — не исключение. В удачном психотерапевтическом процессе происходит интенсификация процессов переживания — человек начинает более энергично, более концентрированно размышлять о кризисной ситуации, живее и ярче вчувствоваться в нее, полнее вникать в открывающиеся внутреннему взору смыслы.
Обычно одной интенсификацией дело переживания не решается, поскольку сам этот процесс может быть «нездоров», может ходить ложными путями, попадать в тупики и ловушки. Переживание в конечном счете есть творчество. Ситуацию невозможности без творческого акта не разрешить.
Поэтому и сопереживание как психологическая помощь в работе переживания является творчеством, не сводимым до конца к методическим алгоритмам и техническим приемам. Психологические исследования творчества [7] показывают, что динамика творческого процесса отнюдь не равномерна, в ней есть свои «мертвые зоны», свои остановки, которые самому субъекту кажутся бесплодными простоями, но благодаря которым происходит аккумуляция смыслов, созревание семян будущих инсайтов и интеллектуальных прорывов.
С учетом этих закономерностей тактика помощи творческому продуктивному переживанию состоит не просто в поддержке, ускорении и интенсификации всех процессов, входящих в переживание. Порой переживанию нужна остановка, перемена направления, переход в новую плоскость. Суть психотерапевтической майевтики и заключается в искусстве остановки переживания, преодолении его инерции, смене устоявшихся маршрутов и привычных ходов.
Эти выкладки позволяют проблематизировать идею фасилитации [12] как не только главной, но по существу единственной стратегии всякой индирективной психотерапии. Творческое сопереживание не сводится к фасилитации любых процессов переживания. Его можно уподобить дирижированию, которое, по мысли О. Мандельштама, является, прежде всего, слушанием, а не управлением, но в то же время оно остается не потакающим, а требовательным, взыскательным слушанием.
Подобным образом и психотерапевтическое сопереживание, оставаясь процессом индирективным, вовсе не является безвольно следующим за любыми поверхностными течениями переживания клиента. Сопереживающее понимание стремится к углубляющемуся вслушиванию в те, еще только намечающиеся, только завязывающиеся линии переживания, у которых пока не хватает силы, чтобы самим выиграть конкурентную борьбу у других, уже давно устоявшихся процессов, но есть своя смысловая правда, которая нуждается в признании и бережном выращивании.
Как в эмпирическом психотерапевтическом процессе клиенты воспринимают майевтические включения терапевта? Приведем краткий анализ самоотчетов участников учебной психотерапевтической мастерской, которым было предложено после небольших терапевтических этюдов записать полученные в клиентской позиции впечатления о влиянии на них метода майевтики.
Непосредственная реакция клиента на майевтическую реплику терапевта чаще всего описывается как шоковая. Майевтика воспринимается как «странная», «неожиданная», впечатление от нее «очень яркое», сравнимое с «холодным душем», «ударом в лоб», «потерей почвы под ногами», «как бы до этого гладили по шерстке, а тут вдруг против». Этот шок сначала вызывает паузу, остановку мыслительных процессов («надолго замолкла», «время обдумывания ответа увеличивалось», «трудно было упорядочить мысли»), а затем происходит улучшение качества мышления, мысль заостряется, приобретает апперцептивный характер («мысли делаются ясными и прозрачными»).
Изменяется и отношение к собственному слову — оно становится «серьезным», «ответственным», «вдумчивым». Все это позволяет клиенту достичь более глубокого, сущностного понимания жизненной ситуации (в самоотчетах много раз встречаются метафоры «глубины», «проникновения в суть проблемы» и т.п.).
При этом вскрытые майевтикой пласты опыта вызывают у клиента двойственное отношение — с одной стороны, возникает «желание закрыться», «попытка отрицать», «поиск отговорок», с другой — «решимость отказаться от прежней позиции», «потребность пересмотреть взгляды» и т.п. «Майевтика сначала отторгается, воспринимается раздраженно, — пишет одна из участниц мастерской, — но потом, после размышлений, оказывается ключевой для понимания происходящего».
В отчетах отмечается также влияние майевтики на ход всего терапевтического процесса — «повысился тонус беседы», «майевтические реплики оказывались поворотными, продвигали сеанс, углубляли его», «процесс терапии стал продуктивнее» и т.п.
Таким образом, майевтика является необходимым элементом в системе методов, реализующих понимающее сопереживание, благодаря своей направленности на стимуляцию рефлексивных процессов и способности «останавливать» и углублять процесс переживания клиента.
Заслуга введения в нашу психологическую и психотерапевтическую литературу проблемы майевтики принадлежит А.А. Пузырею ([10], [11]), который рассматривает майевтику как стратегию высвобождения творческого личностного опыта пациента в противовес манипулятивным стратегиям психотерапевтической работы. В понимающей психотерапии эти идеи А.А. Пузырея развиваются на операционально-методическом уровне.
ЛИТЕРАТУРА
- Асмолов А.Г. Деятельность и установка. М.: Изд-во МГУ, 1979.
- Василюк Ф.Е. Понимающая психотерапия: опыт построения психотехнической системы // Гуманитарные исследования в психотерапии: труды по психотерапии и психологическому консультированию. М.: ПИ РАО; МГППУ, 2007. Вып. 1. С. 159—203.
- Василюк Ф.Е. Семиотика и техника эмпатии // Вопр. психол. 2007. № 1. С. 3—14.
- Василюк Ф.Е. Семиотика психотерапевтической ситуации и психотехника понимания // Моск. психотерапевт. журн. 1996. № 4. С. 48—68.
- Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания и методы психологической помощи // Вопр. психол. 1988. № 5. С. 27—37.
- Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления // Психология мышления / Под ред. А.М. Матюшкина. М.: Прогресс, 1965. С. 86—234.
- Зарецкий В.К., Семенов В.Н., Степанов С.Ю. Рефлексивно-личностный аспект формирования решения творческих задач // Вопр. психол. 1980. № 5. С. 113—118.
- Знаков В.В. Понимание в мышлении, общении, человеческом бытии. М.: ИП РАН, 2007.
- Карпов А.В. Метасистемная организация уровневых структур психики. М.: ИП РАН, 2004.
- Пузырей А.А. Манипулирование и майевтика: две парадигмы психотехники // Вопр. методол. 1997. № 4. С. 148—164.
- Пузырей А.А. Психология. Психотехника. Психагогика. М.: Смысл, 2005.
- Роджерс К. Искусство консультирования и терапии. М.: Апрель-Пресс; Эксмо, 2002.
- Романов И.Ю. Психоанализ: культурная практика и терапевтический смысл: (Введение в теорию, практику и историю психоанализа). М.: Интерпракс, 1994.
- Хайгл-Эверс А. и др. Базисное руководство по психотерапии. СПб.: Вост.-Европ. ин-т психоан.; Речь, 2001.
- Beck A. T. Cognitive therapy and emotional disorders. N.Y.: International Universities Press, 1976.
- Ellis A. Rational-emotive therapy // Corsini R.J. (ed.). Current psychotherapies. Itasca, IL: Peacock, 1973. P. 167—206.