Внимание! Этот текст находится в процессе редакции и адаптации для публикации на сайте. Настоящая версия предоставлена для предварительного ознакомления и может содержать неточности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Грант 07-06-00405-а.
Модель стратиграфического анализа сознания*
В статье ставится задача разработки многоуровневой модели сознания. Первый шаг стратиграфического анализа сознания, осуществленный в предыдущих работах автора, состоял в формировании представления о четырех уровнях, или режимах функционирования сознания. В данной статье вводится представление о регистре сознания. Каждый регистр включает в себя совокупность описанных выше уровней сознания. Анализируются различные типы переходов между регистрами сознания. Разворачивающиеся процессы сознания создают сложно организованную иерархическую структуру регистров, которая функционирует не по линейному, а по сетевому принципу. Описываются закономерности этого сетевого функционирования и его основные процессы. Вводится ряд понятий стратиграфического анализа сознания — «горизонт сознания», «ярус сознания» и др.
Ключевые слова: сознание, стратиграфия сознания, переживание, регистры сознания, уровни сознания, горизонт сознания, ярус сознания.
Сознание легко спугнуть, если вслух объявить, что собираешься его изучать. Будь оно живым существом, пожалуй, наибольшее его удовольствие состояло бы в том, чтобы из надежного укрытия слушать жалобы изощренных философов и ученых о трудностях или даже невозможности его исследования. Рассмотрению этих трудностей Н.П. Бусыгина (2008, в печати) посвятила большой аналитический обзор. Поэтому поспешим объявить в самом начале статьи, что главным предметом нашей работы является вовсе не сознание, а разворачивающийся во времени процесс переживания, для понимания которого и психотерапевтического соучастия в котором приходится создавать некоторые подсобные модели. Стратиграфическая модель анализа сознания — одна из таких моделей.
Вводя термин стратиграфия сознания, мы относим к нему теоретические модели, описывающие слоистое строение сознания, особенно-
сти его функционирования в каждом из слоев, переходы и взаимодействия между слоями.
Тема многоуровневого строения и функционирования сознания является достаточно распространенной в философской и эзотерической литературе. В психологии к одной из первых стратиграфических моделей можно отнести не столько топографические представления З. Фрейда (хотя и их тоже), сколько его функциональное различение первичных и вторичных процессов. В отечественной психологической традиции идея уровней сознания использовались С.Л. Рубинштейном (например, представление о рефлексии как уровне сознания), А.Н. Леонтьевым (например, различение уровня презентации и уровня контроля). В.П. Зинченко (2006) разработал оригинальную систему представлений о стратиграфии сознания, в которой описывается три «слоя» сознания — бытийный, рефлексивный и духовный. Интересные стратиграфические модели сознания предложены О.С. Никольской (2000), А.В. Карповым (2004) и др.
Представленное в данной статье исследование является продолжением иразвитием предпринятой ранее попытки описать закономерности процесса продуктивного переживания, рассматриваемого как целостная внутренняя деятельность, направленная на преодоление смысловой опустошенности жизни (Василюк, 1984).
Уровни функционирования сознания
Психологическая теория переживания изначально выстраивалась в контексте кулыурно-деятельностной психологии Л.С. Выготского — А.Н. Леонтьева. Одним из фундаментальных положений этого подхода является тезис о том, что человеческая деятельность опосредствована сознанием. Это утверждение относится и к деятельности переживания. Для того чтобы проанализировать, как именно это опосредствование происходит, необходимо ввести определенные, психотехнически опе-рационализируемые представления о сознании. Первое из них — представление о четырех режимах (уровнях) функционирования сознания.
В каждом акте сознания можно феноменологически различить две фигуры — Наблюдателя и Наблюдаемое. Каждая из этих феноменологических фигур может находиться либо в активном, субъектном, состоянии, либо в пассивном, объектном. Пересечение этих категориальных оппозиций дает следующую типологию уровней, или режимов, функционирования сознания (табл. 1).
Ключевые слова: сознание, стратиграфия сознания, переживание, регистры сознания, уровни сознания, горизонт сознания, ярус сознания.
Сознание легко спугнуть, если вслух объявить, что собираешься его изучать. Будь оно живым существом, пожалуй, наибольшее его удовольствие состояло бы в том, чтобы из надежного укрытия слушать жалобы изощренных философов и ученых о трудностях или даже невозможности его исследования. Рассмотрению этих трудностей Н.П. Бусыгина (2008, в печати) посвятила большой аналитический обзор. Поэтому поспешим объявить в самом начале статьи, что главным предметом нашей работы является вовсе не сознание, а разворачивающийся во времени процесс переживания, для понимания которого и психотерапевтического соучастия в котором приходится создавать некоторые подсобные модели. Стратиграфическая модель анализа сознания — одна из таких моделей.
Вводя термин стратиграфия сознания, мы относим к нему теоретические модели, описывающие слоистое строение сознания, особенно-
сти его функционирования в каждом из слоев, переходы и взаимодействия между слоями.
Тема многоуровневого строения и функционирования сознания является достаточно распространенной в философской и эзотерической литературе. В психологии к одной из первых стратиграфических моделей можно отнести не столько топографические представления З. Фрейда (хотя и их тоже), сколько его функциональное различение первичных и вторичных процессов. В отечественной психологической традиции идея уровней сознания использовались С.Л. Рубинштейном (например, представление о рефлексии как уровне сознания), А.Н. Леонтьевым (например, различение уровня презентации и уровня контроля). В.П. Зинченко (2006) разработал оригинальную систему представлений о стратиграфии сознания, в которой описывается три «слоя» сознания — бытийный, рефлексивный и духовный. Интересные стратиграфические модели сознания предложены О.С. Никольской (2000), А.В. Карповым (2004) и др.
Представленное в данной статье исследование является продолжением иразвитием предпринятой ранее попытки описать закономерности процесса продуктивного переживания, рассматриваемого как целостная внутренняя деятельность, направленная на преодоление смысловой опустошенности жизни (Василюк, 1984).
Уровни функционирования сознания
Психологическая теория переживания изначально выстраивалась в контексте кулыурно-деятельностной психологии Л.С. Выготского — А.Н. Леонтьева. Одним из фундаментальных положений этого подхода является тезис о том, что человеческая деятельность опосредствована сознанием. Это утверждение относится и к деятельности переживания. Для того чтобы проанализировать, как именно это опосредствование происходит, необходимо ввести определенные, психотехнически опе-рационализируемые представления о сознании. Первое из них — представление о четырех режимах (уровнях) функционирования сознания.
В каждом акте сознания можно феноменологически различить две фигуры — Наблюдателя и Наблюдаемое. Каждая из этих феноменологических фигур может находиться либо в активном, субъектном, состоянии, либо в пассивном, объектном. Пересечение этих категориальных оппозиций дает следующую типологию уровней, или режимов, функционирования сознания (табл. 1).
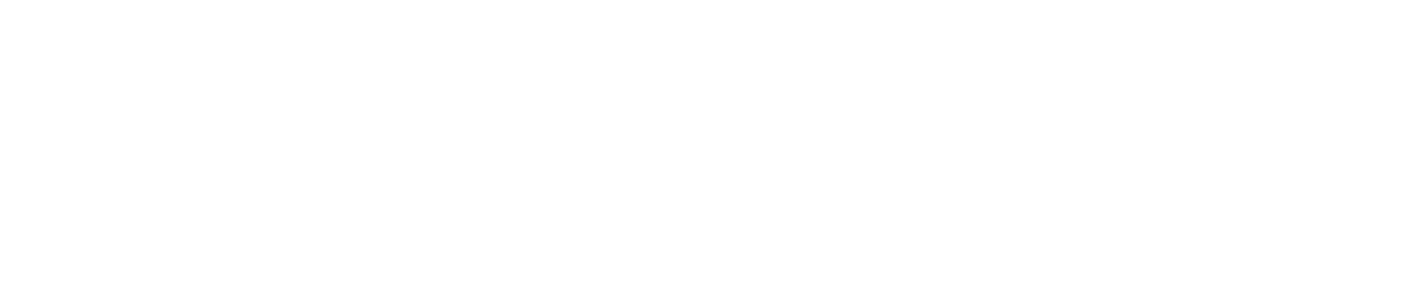
Когда человек всматривается или вслушивается, продумывает что-то или о чем-то вспоминает, в такого рода процессах феноменологический Наблюдатель находится в активном состоянии, а Наблюдаемое, т.е. предмет его зрения и слушания, мышления и вспоминания, — в пассивном. Этот режим функционирования сознания терминологически выражается термином сознавание (С). Когда человеку «неожиданно пришла в голову странная мысль» или его «охватило чувство гнева», «отвлек неожиданный звук», в такого рода феноменах Наблюдаемое (мысль, гнев, звук)выступает как активный агент, а Наблюдатель — как пассивный регистратор происходящих событий. Такого рода процессы относятся к уровню непосредственного переживания (П).Феномены активного отношения к собственной психической активности, когда человек активно комментирует, осмысляет, оценивает собственную активность, репрезентируют уровеньрефлексии (Р).Психические процессы, не прослеживаемые внутренним наблюдением (Наблюдатель и Наблюдаемое феноменологически пассивны), относятся к уровню бессознательного (Б).
Эти представления позволили выдвинуть гипотезу (Василюк, 1988) об уровневом построении переживания по аналогии с теорией
Н.А. Бернштейна (1947) об уровневом построении движения. Процесс переживания можно описать как протекающий по четырем связанным между собой каналам, каждый из которых может быть ведущим в той или иной фазе переживания.
Случаи, в которых ведущим в работе переживания является уровень бессознательного, хорошо известны не только психотерапевтическому, но и художественному мышлению (например, у И. Бунина: «тайная работа души»). Когда внутренняя работа по преодолению критической ситуации осуществляется главным образом на уровне непосредственного пере- живания, она выступает в сознании в виде эмоционального проживания ситуации, «ноющих воспоминаний», ассоциативного кружения мысли вокруг болезненных тем и т.п. Доминирование процессов уровня непосредственного переживания не обязательно означает, что эти процессы подчиняют себе все остальные уровни, в частности, уровень сознавания. Переживая даже очень тяжелый кризис, человек продолжает чаще всего исполнять текущие повседневные обязанности, и именно функционирование уровня сознавания обеспечивает продумывание целей, определение очередности исполнения действий, подбор средств и т.п. Разумеется, функционирование это в период кризиса сплошь и рядом дает сбои. Например, клинические наблюдения за процессами переживания горя (Василюк, 1991а) обнаруживают различные виды нарушения сосредоточенности, планирования и пр. аспектов деятельности, за которые отвечает уровень сознавания.
Порой именно процессы уровня сознавания становятся доминирующими в осуществлении работы переживания. Человек вполне целенаправленно ставит перед собой задачу поиска смысловых «месторождений» и предпринимает пробные проверки их смыслообразующего потенциала. (Так Евгений Онегин, «томясь душевной пустотой», берется то за перо, то за чтение, то помышляет о путешествии).
Эти процессы, однако, редко столь прямым путем приводят к ус-пеху, напротив, сплошь и рядом они открывают очередной тупик в критической ситуации, и доминанта целостной работы по совладанию с кризисом либо снова возвращается на уровень непосредственного переживания, либо переходит к процессам рефлексивного уровня. При этом предметом рефлексии может стать и сама деятельность переживания, и то в сознании, что послужило одним из источников и причин кризиса. Человек начинает рефлексивно переосмысливать собственные убеждения и ценности, позиции и цели, казавшиеся до сих пор самоочевидными и непреложными («А почему я вдруг решил, что обязан быть счастливым?» и т.п.). Тем самым иногда создается возможность для творческой переориентации направления и способа переживания1.
_________________________________
1Г. Хант со ссылкой на У. Найссера (Neiser, 1976) и Ф. Бартлетта (Bartlett, 1932) полагает, что эта рефлексивная способность «оборачиваться назад» на исходные схемы организации сознания является фундаментальной чертой человеческого разума, обеспечивающей возможность обновлений и спонтанной реорганизации сознания (Хант, 2004, с. 52).
_________________________________
Модель уровневого построения переживания позволяет представить душевную работу по совладанию с кризисом в виде некоторой «мелодии»: человек в кризисной ситуации то отдается течению чувств на уровне непосредственного переживания, то пытается на уровне сознавания обдумать ситуацию, принять решение, проанализировать возможные исходы, то ставит перед собой рефлексивные вопросы, то забывается от усталости сном, и работа переживания продолжается в форме сновидения.
Парадоксы уровневой модели
Эта четырехуровневая модель стратиграфии сознания дает возможность достаточно точных описаний эмпирических процессов переживания, однако — лишь на небольших интервалах. Применение модели по отношению к сколько-нибудь развернутым этапам работы переживания приводит к парадоксам. Обратимся к примеру:
(1) Утро туманное, утро седое,
(2) Нивы печальные, снегом покрытые,
(3) Нехотя вспомнишь и время былое,
(4) Вспомнишь и лица, давно позабытые.
(5) Вспомнишь обильные страстные речи,
(6) Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
(7) Первые встречи, последние встречи,
(8) Тихого голоса звуки любимые.
(9) Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
(10) Многое вспомнишь родное, далекое,
(11) Слушая ропот колес непрестанный,
(12) Глядя задумчиво в небо широкое.
Если принять стихотворение И. Тургенева за лирическое описание переживания и попытаться изобразить «мелодию» этого переживания, размещая различные феномены сознания на неком подобии нотного стана, соответствующего четырем уровням сознания, то придется на одной и той же линейке непосредственного переживания записать и «печаль» (2-я строка), и «страсть» (5-я), и «нежность» (8-я), и «грусть» (9-я), и «отрешенность» (12-я). Такое механическое размещение их рядом, так сказать, через запятую, заставляет неправомерно «диагностировать» у лирического героя какую-то галопирующую эмоциональную лабильность. К таким же парадоксам приводит попытка применения модели для описания переживания пациента в ходе психотерапевтической консультации. Например, терапевт слышит в его рассказе две следующие почти друг за другом аффективные ноты. Первая эмоция воспроизводит старое, неизжитое чувство, которое почти с прежней силой охватывает пациента, когда он вспоминает прошлые события, а вторая выражает его нынешнее отношение к первому чувству (скажем, сейчас стыдно, что тогда было страшно). Размещение этих двух чувств на одной и той же линейке нашего нотного стана выглядело бы противоестественным. Хотя, разумеется, и «стыдно», и «страшно» относятся и к уровню непосредственного переживания, но при этом они явно принадлежат разным мирам, явно не рядоположны, явно иерархически не равнозначны, хотя бы и были одинаковы по интенсивности. Чтобы дифференцировать их, приходится выдвинуть несколько неожиданное предположение, что в стратиграфической системе сознания присутствует не один, а несколько уровней непосредственного переживания.
Аналогичные рассуждения можно провести для уровня бессознательного, и вывод будет столь же парадоксальным: в системе сознания существует не одно, так сказать, стационарное, штатное бессознательное, устроенное раз и навсегда по фрейдовским или юнговским чертежам, а множество функционально создаваемых бессознательных слоев и прослоек. Они могут ситуативно формироваться по случаю и затем либо смываться волнами последующих процессов, либо тем или иным способом закрепляться в виде ли функциональных органов, симптомов или внутренних стратегий. То же самое, разумеется, справедливо для всех названных выше уровней сознания.
Для разрешения такого рода парадоксов мы предлагаем ввести представление орегистрах сознания. Каждый регистр сознания включает в себя совокупность описанных четырех уровней сознания (как каждая музыкальная октававключает в себя одинаковую совокупность ступеней звукоряда).
Процесс переживания разворачивается сначала в одном регистре сознания, потом переключается на второй, третий, снова возвращает-
ся к первому, какие-то события происходят одновременно в разных регистрах, бросая взаимные рефлексы друг на друга, и т.д. Для применения категории регистра к стратиграфическому анализу процессов сознания и переживания необходимо ввести ряд вспомогательных представлений и понятий.
Регистр и жизненный мир
Та функциональная констелляция процессов сознания, которая со структурно-стратиграфической точки зрения предстает как отдельный регистр сознания, с точки зрения феноменологической выступает как особый жизненный мир. Такой отдельный жизненный мир может быть описан с помощью определенного набора параметров. В этот набор входит специфическое пространство и время жизненного мира, субъект данного жизненного мира и характерный другой (другие), предметное наполнение и особая атмосфера, язык и миф.
Ноябрьские поля, уплывающие за окном поезда в белесый утренний туман, немолодой человек, задумавшийся о чем-то под мерный стук колес, — это один мир. Но в том же стихотворении читатель погружается на минуту в совсем другой мир, населенный другими персонажами, пронизанный совсем другой атмосферой — влюбленности, горячности, здесь совсем другая страстная ритмика дыхания, другой звукоряд, другая оптика (например, расфокусированный, «задумчивый» взгляд, перед которым простираются заснеженные нивы, широкое небо, совсем не похож на сконцентрированный взгляд влюбленного, пытающийся уловить малейшие перемены одного «объекта» — глаз возлюбленной).
Б.М. Величковский с соавторами (1986) в контексте анализа пространственных представлений ввели для описания этой реальности понятие «ментального пространства» как особой семантически самостоятельной области, которая обладает своими пространственно-временными, смысловыми, актантными и эмоциональными характеристиками. В более ранней работе Б.М. Величковский (1983) сформулировал гипотезу об иерархическом (точнее, гетерархическом) принципе организации в сознании подобных «ментальных пространств». Логика анализа нашего материала приводит к аналогичным выводам.
Иерархическая организация регистров сознания
Множественности регистров сознания соответствует факт множественности жизненных миров, в которых феноменологически пребы-вает сознание человека. Для того чтобы совершилась работа переживания, сознание человека должно перемещаться между различными жизненными мирами, попутно создавая и изменяя как сами эти миры, так и отношения и связи между ними.
Первая закономерность, которая обнаруживается при анализе разворачивающегося процесса переживания с этой точки зрения, состоит
в том, что последовательная смена регистров сознания не является линейным процессом, в ходе которого один регистр приходит на место другого, потом уступает это место третьему и т.д. Разворачивающийся процесс переживания создает сложно организованную иерархическую структуру регистров, которая функционирует по принципу сети. Попытаемся описать особенности этого сетевого функционирования и его основные процессы.
Порождение регистра
Процесс, благодаря которому сеть регистров создается, расширяется и действует, — это порождение регистра N+1 из регистра N.
Самым простым примером порождения регистра может служить иллюстрирование рассказчиком какой-то мысли. В этих случаях некое событие, относящееся к уровню сознавания первого регистра, начинает разрастаться, подробно и обильно описываться, насыщаться чувственными деталями, так что в конечном итоге вырастает до статуса особого, относительно самостоятельного жизненного мира. Становится возможным движение сознания по логике и законам этого вновь рожденного жизненного мира.
В случае иллюстрирования весь жизненный мир второго регистра продолжает оставаться «точечным» событием первого регистра, толь-
ко на время раскрывшимся, расцветшим в самостоятельную психологическую реальность. Она может в одночасье быть свернута и стать в один ряд с такими же «точками» первого регистра. Однако, это не единственный возможный сценарий. Степень зависимости/независимости нового жизненного мира от материнского может быть разной. К обсуждению этого вопроса мы обратимся ниже.
Какими, собственно, процессами обеспечивается рождение особого жизненного мира? Мы будем использовать термин «виртуализация» (см.: Генисаретский, 1986; Каганов, 2003) для обозначения актов, благодаря которым то или иное описание обретает такую степень достоверности и убедительности, что становится самостоятельной психологической реальностью. Каковы психологические механизмы виртуализации жизненного мира?
А.Н. Леонтьев писал: «Особая функция чувственных образов сознания состоит в том, что они придают реальность (курсив наш. — Ф.В.)сознательной картине мира, открывающейся субъекту» (Леонтьев, 1975, с. 134).
В соответствии с этим теоретическим положением можно ожидать, что в начале формирования нового жизненного мира должно происходить особо интенсивное насыщение уровня непосредственного переживания того регистра сознания, который соответствует этому жизненному миру. Оно достигается ярким чувственным описанием ощущений или выпуклых деталей опыта, которые тут же откликаются на уровне непосредственного переживания. Вот литературный пример.
Быт был труден, да и обстановка была напряженная, какая-то тревожная. Но по вечерам, после работы были рамки и всякие лобзики, пилки, напильники, лаки и ароматная древесина. И все тотчас забывалось… (Б.Окуджава. «Как Иван Иванович осчастливил целую страну»).
Если бы автор сказал, что у героя было увлечение, которому он предавался по вечерам, после работы, то «Хобби» в читательском созна-
нии оказалось бы точечным событием первого регистра, которое противопоставляется другим равноранговым ему событиям (прежде всего «Работе»), которые вместе образуют «Трудный быт». Но текст, минуя обобщающее называние, сразу погружает сознание читателя в насыщенную чувственными деталями атмосферу — рамки, лобзики, пилки, напильники, лаки, ароматная древесина, — и соответствующие ощущения, особенно запахи, сразу создают особый мирок со своим особым настроением.
Один из классических приемов виртуализации — использование «крупного плана», т.е. описание реальности, данное с такого близкого расстояния, что все перцептивное поле оказывается занятым без остатка предлагаемыми «камерой» деталями. В такой близи сознание подпадает под гипнотическое влияние самих вещей: в них начинает проступать завораживающая фактурность. Многократно возрастает поле-вое влияние вещи (К. Левин), поскольку она оказалась извлечена из широкого предметно-смыслового контекста, который управлял ею. Соответственно, пробуждаются инфантильные слои опыта встречи с вещной, довлеющей себе реальностью, которая увлекает инфантильное сознание своей непосредственной чувственной стороной (яркий свет, вкус, запах, шум), а не предметно-смысловой. Наконец, действуют подспудно и психофизиологические механизмы — очень близко экспонируемый объект вызывает рефлекторное напряжение мышц, отвечающих за конвергенцию глазных яблок, в результате чего быстро возникает их утомление и естественное стремление к их расслабленно-расфокусированному состоянию, соответствующее сновидному состоянию сознания.
Однако свой вклад в виртуализацию жизненного мира может вносить не одна лишь «чувственная ткань» сознания. Вновь рождающий-
ся жизненный мир может быстро наполниться ощущением полновесной реальности за счет возбуждения интеллектуального интереса2 или благодаря драматизму сюжетной интриги («что же будет дальше?»). Пример последнего случая — начало стихотворения В. Набокова, тяжело переживавшего вынужденную разлуку с Родиной:
Бывают ночи, только лягу,
В Россию поплывет кровать.
И вот ведут меня к оврагу,
Ведут к оврагу убивать.
_________________________
2Так «затягивают» в свой особый мир условия простой задачи: «Есть два стакана с одинаковым количеством молока и кофе; из стакана с молоком переливают ложку в стакан с кофе,перемешивают, а затем ложку смеси возвращают в стакан с молоком. Вопрос: чего будет больше — молока в кофе или кофе в молоке?»
_________________________
Для первичной виртуализации нового жизненного мира вовсе не обязательно достигать полноты описания всех его параметров (пространства, времени, субъекта-протагониста и т.д.). Сознание часто действует с лаконизмом мастера, которому позавидовал чеховский герой: «Горлышко отбитой бутылки блестит на мельничном колесе — вот и лунная ночь готова».
Переходы между регистрами
Существуют многообразные виды переходов между регистрами сознания. Прежде всего, необходимо различить переходы «вниз», от материнского регистра к дочернему, и переходы «вверх» — возвращение к материнскому регистру.
Операция перехода «вниз», когда он совершается впервые по маршруту от данного жизненного мира i к жизненному миру i+1, собственно, совпадает с операцией порождения последнего. Повторное перемещение сознания по тому же, уже проторенному пути не порождает, а лишь актуализирует в сознании жизненный мир i+1, хотя процесс этой актуализации сохраняет в себе черты первичной виртуализации, без которой жизненный мир не может стать убедительной субъективной реальностью.
Различие между переходами «вниз» и «вверх» — не формальное: и психологический смысл, и техника двух видов переходов очень разные. Если переход «вниз» завораживает сознание, виртуализируя миры представления, воображения, воспоминания, мечты и пр., то переход «вверх», напротив, расколдовывает, отрезвляет, пробуждает сознание, выводя его в пласты, приближенные к настоящей «здесь-и-теперь» действительности3 .
_________________________
3Разумеется,тут всегда возникает вопрос о критериях «настоящей реальности». Этот вопрос не психологического, а философского уровня анализа. На психологическом же уровне можно отметить, что сама конструкция «настоящей реальности» такова, что она созначается с состоянием бодрствования, по отношению к которому все остальные доступные сознанию миры квалифицируются как разновидности сновидных состояний.
_________________________
Кроме «вертикальных» переходов существуют переходы «горизонтальные». Например,в авантюрном романе в соответствии с логикой
хронотопа «дороги» случайно сменяют друг друга различные приключения (Бахтин, 1975). Переходы между мирами этих «случаев» обеспечиваются неожиданным появлением новых героев, обстоятельств, наступлением того или иного времени суток или года и т.д. В данной статье основное внимание будет уделено вертикальным переходам сознания.
Стоит различать также естественный, непроизвольный переход сознания и искусственный, произвольный, который уместно назвать психотехническим переводом. Гипнотизация, наведение транса, медитация и т.п. практики осуществляют психотехнический перевод сознания.
Переход или перевод сознания в другой регистр обычно начинается с оператора перехода. «Оператором перехода» мы будем называть такие элементы речевых конструкций (и стоящие за ними соответствующие движения сознания), которые создают формальные условия для перемещения сознания из одного регистра в другой4.
_________________________
4Обратим внимание, что вводимый нами термин схож с тем, который использует Б.М. Величковский (1986) с соавторами — «метаоператор порождения ментальных пространств».
_________________________
Типичные примеры операторов переходов «вниз» указывают на иное событийное время или место по сравнению с хронотопом повествователя и/или слушателя — «давным-давно», «в некотором царстве, в некотором государстве», «нынче в 5 утра», «а в то же самое время в Париже…», «когда ты еще был маленьким».
Переход «вверх» в художественных текстах зачастую оформляется прямыми указаниями на пробуждение. Яркое описание жизненного
мира неожиданно прерывается сообщением, что герой «проснулся», «очнулся», «оцепенелого сознанья коснулось тиканье часов» и т.п. Операторы переходов «вверх» часто носят рефлексивный характер, они «разоблачают» психологические процессы и операции, стоявшие в начале порождения виртуального жизненного мира, из которого созна ние сейчас намеревается возвращаться в реальный. «Что только не привидится…», «ну, сколько ни мечтай, а дело есть дело…».
Другой вариант подобного рефлексивного разоблачения — вскрытие собственно виртуального характера данного жизненного мира за счет его сопоставления с миром реальным. «И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало» (т.е. сказочный мир, окружая меня, казался настоящей реальностью, но все же материального «причастия» ему не состоялось — «в рот не попало»). Уже цитировавшееся ностальгическоестихотворение В. Набокова, где герой во сне оказывается на недоступной Родине и его ведут на расстрел, заканчивается такой строфой:
Но сердце, как бы ты хотело,
Чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
И весь в черемухе овраг.
«Чтоб это вправду было так» — вот оператор перехода «вверх», в мир яви в отличие от мира сновидческой мечты.
Переход «вверх» как бы берет весь предыдущий жизненный мир в кавычки, демонстрируя его искусственность, сделанность, произ-водность. Весь этот мир — «произведение», а вот и его «автор» — «разгоряченное воображение», «буйная фантазия», «сон», «мечта», «воспоминание» и т.п. Переход выставляет напоказ все швы, сам процесс производства, виртуализации производного жизненного мира, возвращая исходному жизненному миру статус настоящей реальности, узурпированный было миром произведения. Поэтому переход «вверх» почти всегда требует произвольного и рефлексивного усилия.
Переход «вниз», напротив, часто вуалирует «производственные процессы», старается быстро и незаметно проскочить мимо их упоминания и осознания, как бы соскальзывая в мир более низкого порядка. Таковы и естественные переходы, носящие непроизвольный характер (незаметно для себя задремал, замечтался, погрузился в воспоминания), таковы и разворачивающиеся в диалогическом режиме в ходе психотерапии процессы переживания (скажем, когда клиент, рассказывая о семейных неурядицах, неприметно «втягивается» в пространство собственного рассказа, теряет авторскую позицию и уже не столько повествует об эпизодах, сколько аффективно проигрывает их), таковы и приемы гипнотизации, и эстетические приемы создания отдельных миров в художественном произведении.
Гипнотическая и художественная техника копирует и культивирует естественные процессы «соскальзываний» сознания в «нижележащие» состояния и миры, когда в условиях утомления, аффективной захваченности, спешки снижается уровень рефлексивного контроля и произвольности и у субъекта не достает энергии, сил, времени для сознательной «цензуры» и санкционирования подступившей новой реальности. Она охватывает сознание де факто, не дожидаясь никаких позволений де юре.
Приведем пример. Эста, герой романа Арундати Роя «Бог мелочей», в задумчивости разглядывает лицо сестры:
…Поблескивание ее глаз5 в темноте. Маленький прямой нос. Ее рот, полные губы. Что-то в них раненное... Прекрасные обиженные губы. Прекрасные материнские губы, подумал Эста. Губы Амму. Которые поцеловали его руку, просунутую в зарешеченное окно поезда. Вагон первого класса, Мадрасский почтовый в Мадрас.
— До свидания, Эста. Храни тебя Бог, — сказали губы Амму. Ее силящиеся не плакать губы.
_________________________
5 Полужирным шрифтом выделены слова, которые будут использованы как маркеры актов сознания на рис. 1 и 3. — Ф.В.
_________________________
Началом перехода в мир воспоминаний служит здесь «ассоциация по сходству». Благодаря ей сознание героя сначала сравнивает, а потом отождествляет губы сестры и матери, «которые поцеловали его руку, просунутую в зарешеченное окно поезда». Оператором перехода выступает здесь невинное местоимение «которые». «Хитрость» в том, что в описании опускаются указания на начавшийся акт воспоминания. И именно этот пропуск оказывается значимым для создания мира сознания, где все зыбко, все двоится и реальности разных миров наплывают друг на друга по логике сновидения. «Которые» без опознавательных знаков времени («которые когда-то») с разбегу воспринимаются сознанием как продолжение настоящего времени.
Этот завуалированный, «скрытый» тип перехода подхватывается в данном примере резкой сменой позиции наблюдателя. «Которые поцеловали его руку, просунутую в зарешеченное окно поезда» — за счет этого указания обладатель руки, а вместе с ним и читательское сознание оказываются в пространстве поезда. И тут же, как только поцелуем едва-едва намечена реальность нового регистра (сцена «Прощание на вокзале»), начинается постепенное деловитое описание его деталей, которое не дает опомниться ошеломленному этим неожиданным перемещением сознанию: «Вагон первого класса. Мадрасский почтовый в Мадрас».
Подобными завуалированными переходами создаются сильные эстетические эффекты. В естественных процессах переживания типологически такие же бессознательные переходы и соединение жизнен-ных миров могут участвовать в создании столь же сильных психопатологических эффектов (спутанное сознание, бредовые состояния и т.п.).
В обсуждаемой стратиграфической модели процессы в каждом регистре протекают по четырем уровням сознания. С этой точки зрения переходы между регистрами осуществляются благодаря замыканию одного из четырех уровней первого регистра с одним из четырех уровней второго.По формально-комбинаторнойлогике можно, соответственно, выделить 16 возможных разновидностей переходов.Нет нужды специально анализировать все это множество, дадим лишь одну иллюстрацию, чтобы показать, как работает схема уровней сознания в деле анализа переходов между жизненными мирами (рис. 1).
Последний из представленных примеров может быть описан как I-с — II-с—переход, т.е. переход от уровня сознавания первого регистра (I-с) к уровню сознавания второго регистра (II-с).
Когда герой рассматривает лицо сестры, то соответствующие акты сознания и их результаты относятся преимущественно к уровню сознавания. Взгляд выделяет разные объекты — глаза, нос, губы. Потом осуществляется акт отождествления: «губы сестры» = «губы матери». Они называются дважды: сначала — «прекрасные материнские губы», а затем — «губы Амму». Первое называние еще принадлежит первому регистру сознания, где на уровне сознавания совершается акт сравнения и обнаружения сходства, акт узнавания в губах сестры губ матери, а второе называние относится уже ко второму регистру. Итак, первое тождество связывает два объекта на уровне сознавания первого регистра, а второе связывает объекты, размещенные на уровнях сознавания двух регистров, и по «желобу» этого тождества сознание соскальзывает в другой жизненный мир — воспоминание о прощании с матерью. Попробуем изобразить эти отношения на схеме.
Эти представления позволили выдвинуть гипотезу (Василюк, 1988) об уровневом построении переживания по аналогии с теорией
Н.А. Бернштейна (1947) об уровневом построении движения. Процесс переживания можно описать как протекающий по четырем связанным между собой каналам, каждый из которых может быть ведущим в той или иной фазе переживания.
Случаи, в которых ведущим в работе переживания является уровень бессознательного, хорошо известны не только психотерапевтическому, но и художественному мышлению (например, у И. Бунина: «тайная работа души»). Когда внутренняя работа по преодолению критической ситуации осуществляется главным образом на уровне непосредственного пере- живания, она выступает в сознании в виде эмоционального проживания ситуации, «ноющих воспоминаний», ассоциативного кружения мысли вокруг болезненных тем и т.п. Доминирование процессов уровня непосредственного переживания не обязательно означает, что эти процессы подчиняют себе все остальные уровни, в частности, уровень сознавания. Переживая даже очень тяжелый кризис, человек продолжает чаще всего исполнять текущие повседневные обязанности, и именно функционирование уровня сознавания обеспечивает продумывание целей, определение очередности исполнения действий, подбор средств и т.п. Разумеется, функционирование это в период кризиса сплошь и рядом дает сбои. Например, клинические наблюдения за процессами переживания горя (Василюк, 1991а) обнаруживают различные виды нарушения сосредоточенности, планирования и пр. аспектов деятельности, за которые отвечает уровень сознавания.
Порой именно процессы уровня сознавания становятся доминирующими в осуществлении работы переживания. Человек вполне целенаправленно ставит перед собой задачу поиска смысловых «месторождений» и предпринимает пробные проверки их смыслообразующего потенциала. (Так Евгений Онегин, «томясь душевной пустотой», берется то за перо, то за чтение, то помышляет о путешествии).
Эти процессы, однако, редко столь прямым путем приводят к ус-пеху, напротив, сплошь и рядом они открывают очередной тупик в критической ситуации, и доминанта целостной работы по совладанию с кризисом либо снова возвращается на уровень непосредственного переживания, либо переходит к процессам рефлексивного уровня. При этом предметом рефлексии может стать и сама деятельность переживания, и то в сознании, что послужило одним из источников и причин кризиса. Человек начинает рефлексивно переосмысливать собственные убеждения и ценности, позиции и цели, казавшиеся до сих пор самоочевидными и непреложными («А почему я вдруг решил, что обязан быть счастливым?» и т.п.). Тем самым иногда создается возможность для творческой переориентации направления и способа переживания1.
_________________________________
1Г. Хант со ссылкой на У. Найссера (Neiser, 1976) и Ф. Бартлетта (Bartlett, 1932) полагает, что эта рефлексивная способность «оборачиваться назад» на исходные схемы организации сознания является фундаментальной чертой человеческого разума, обеспечивающей возможность обновлений и спонтанной реорганизации сознания (Хант, 2004, с. 52).
_________________________________
Модель уровневого построения переживания позволяет представить душевную работу по совладанию с кризисом в виде некоторой «мелодии»: человек в кризисной ситуации то отдается течению чувств на уровне непосредственного переживания, то пытается на уровне сознавания обдумать ситуацию, принять решение, проанализировать возможные исходы, то ставит перед собой рефлексивные вопросы, то забывается от усталости сном, и работа переживания продолжается в форме сновидения.
Парадоксы уровневой модели
Эта четырехуровневая модель стратиграфии сознания дает возможность достаточно точных описаний эмпирических процессов переживания, однако — лишь на небольших интервалах. Применение модели по отношению к сколько-нибудь развернутым этапам работы переживания приводит к парадоксам. Обратимся к примеру:
(1) Утро туманное, утро седое,
(2) Нивы печальные, снегом покрытые,
(3) Нехотя вспомнишь и время былое,
(4) Вспомнишь и лица, давно позабытые.
(5) Вспомнишь обильные страстные речи,
(6) Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
(7) Первые встречи, последние встречи,
(8) Тихого голоса звуки любимые.
(9) Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
(10) Многое вспомнишь родное, далекое,
(11) Слушая ропот колес непрестанный,
(12) Глядя задумчиво в небо широкое.
Если принять стихотворение И. Тургенева за лирическое описание переживания и попытаться изобразить «мелодию» этого переживания, размещая различные феномены сознания на неком подобии нотного стана, соответствующего четырем уровням сознания, то придется на одной и той же линейке непосредственного переживания записать и «печаль» (2-я строка), и «страсть» (5-я), и «нежность» (8-я), и «грусть» (9-я), и «отрешенность» (12-я). Такое механическое размещение их рядом, так сказать, через запятую, заставляет неправомерно «диагностировать» у лирического героя какую-то галопирующую эмоциональную лабильность. К таким же парадоксам приводит попытка применения модели для описания переживания пациента в ходе психотерапевтической консультации. Например, терапевт слышит в его рассказе две следующие почти друг за другом аффективные ноты. Первая эмоция воспроизводит старое, неизжитое чувство, которое почти с прежней силой охватывает пациента, когда он вспоминает прошлые события, а вторая выражает его нынешнее отношение к первому чувству (скажем, сейчас стыдно, что тогда было страшно). Размещение этих двух чувств на одной и той же линейке нашего нотного стана выглядело бы противоестественным. Хотя, разумеется, и «стыдно», и «страшно» относятся и к уровню непосредственного переживания, но при этом они явно принадлежат разным мирам, явно не рядоположны, явно иерархически не равнозначны, хотя бы и были одинаковы по интенсивности. Чтобы дифференцировать их, приходится выдвинуть несколько неожиданное предположение, что в стратиграфической системе сознания присутствует не один, а несколько уровней непосредственного переживания.
Аналогичные рассуждения можно провести для уровня бессознательного, и вывод будет столь же парадоксальным: в системе сознания существует не одно, так сказать, стационарное, штатное бессознательное, устроенное раз и навсегда по фрейдовским или юнговским чертежам, а множество функционально создаваемых бессознательных слоев и прослоек. Они могут ситуативно формироваться по случаю и затем либо смываться волнами последующих процессов, либо тем или иным способом закрепляться в виде ли функциональных органов, симптомов или внутренних стратегий. То же самое, разумеется, справедливо для всех названных выше уровней сознания.
Для разрешения такого рода парадоксов мы предлагаем ввести представление орегистрах сознания. Каждый регистр сознания включает в себя совокупность описанных четырех уровней сознания (как каждая музыкальная октававключает в себя одинаковую совокупность ступеней звукоряда).
Процесс переживания разворачивается сначала в одном регистре сознания, потом переключается на второй, третий, снова возвращает-
ся к первому, какие-то события происходят одновременно в разных регистрах, бросая взаимные рефлексы друг на друга, и т.д. Для применения категории регистра к стратиграфическому анализу процессов сознания и переживания необходимо ввести ряд вспомогательных представлений и понятий.
Регистр и жизненный мир
Та функциональная констелляция процессов сознания, которая со структурно-стратиграфической точки зрения предстает как отдельный регистр сознания, с точки зрения феноменологической выступает как особый жизненный мир. Такой отдельный жизненный мир может быть описан с помощью определенного набора параметров. В этот набор входит специфическое пространство и время жизненного мира, субъект данного жизненного мира и характерный другой (другие), предметное наполнение и особая атмосфера, язык и миф.
Ноябрьские поля, уплывающие за окном поезда в белесый утренний туман, немолодой человек, задумавшийся о чем-то под мерный стук колес, — это один мир. Но в том же стихотворении читатель погружается на минуту в совсем другой мир, населенный другими персонажами, пронизанный совсем другой атмосферой — влюбленности, горячности, здесь совсем другая страстная ритмика дыхания, другой звукоряд, другая оптика (например, расфокусированный, «задумчивый» взгляд, перед которым простираются заснеженные нивы, широкое небо, совсем не похож на сконцентрированный взгляд влюбленного, пытающийся уловить малейшие перемены одного «объекта» — глаз возлюбленной).
Б.М. Величковский с соавторами (1986) в контексте анализа пространственных представлений ввели для описания этой реальности понятие «ментального пространства» как особой семантически самостоятельной области, которая обладает своими пространственно-временными, смысловыми, актантными и эмоциональными характеристиками. В более ранней работе Б.М. Величковский (1983) сформулировал гипотезу об иерархическом (точнее, гетерархическом) принципе организации в сознании подобных «ментальных пространств». Логика анализа нашего материала приводит к аналогичным выводам.
Иерархическая организация регистров сознания
Множественности регистров сознания соответствует факт множественности жизненных миров, в которых феноменологически пребы-вает сознание человека. Для того чтобы совершилась работа переживания, сознание человека должно перемещаться между различными жизненными мирами, попутно создавая и изменяя как сами эти миры, так и отношения и связи между ними.
Первая закономерность, которая обнаруживается при анализе разворачивающегося процесса переживания с этой точки зрения, состоит
в том, что последовательная смена регистров сознания не является линейным процессом, в ходе которого один регистр приходит на место другого, потом уступает это место третьему и т.д. Разворачивающийся процесс переживания создает сложно организованную иерархическую структуру регистров, которая функционирует по принципу сети. Попытаемся описать особенности этого сетевого функционирования и его основные процессы.
Порождение регистра
Процесс, благодаря которому сеть регистров создается, расширяется и действует, — это порождение регистра N+1 из регистра N.
Самым простым примером порождения регистра может служить иллюстрирование рассказчиком какой-то мысли. В этих случаях некое событие, относящееся к уровню сознавания первого регистра, начинает разрастаться, подробно и обильно описываться, насыщаться чувственными деталями, так что в конечном итоге вырастает до статуса особого, относительно самостоятельного жизненного мира. Становится возможным движение сознания по логике и законам этого вновь рожденного жизненного мира.
В случае иллюстрирования весь жизненный мир второго регистра продолжает оставаться «точечным» событием первого регистра, толь-
ко на время раскрывшимся, расцветшим в самостоятельную психологическую реальность. Она может в одночасье быть свернута и стать в один ряд с такими же «точками» первого регистра. Однако, это не единственный возможный сценарий. Степень зависимости/независимости нового жизненного мира от материнского может быть разной. К обсуждению этого вопроса мы обратимся ниже.
Какими, собственно, процессами обеспечивается рождение особого жизненного мира? Мы будем использовать термин «виртуализация» (см.: Генисаретский, 1986; Каганов, 2003) для обозначения актов, благодаря которым то или иное описание обретает такую степень достоверности и убедительности, что становится самостоятельной психологической реальностью. Каковы психологические механизмы виртуализации жизненного мира?
А.Н. Леонтьев писал: «Особая функция чувственных образов сознания состоит в том, что они придают реальность (курсив наш. — Ф.В.)сознательной картине мира, открывающейся субъекту» (Леонтьев, 1975, с. 134).
В соответствии с этим теоретическим положением можно ожидать, что в начале формирования нового жизненного мира должно происходить особо интенсивное насыщение уровня непосредственного переживания того регистра сознания, который соответствует этому жизненному миру. Оно достигается ярким чувственным описанием ощущений или выпуклых деталей опыта, которые тут же откликаются на уровне непосредственного переживания. Вот литературный пример.
Быт был труден, да и обстановка была напряженная, какая-то тревожная. Но по вечерам, после работы были рамки и всякие лобзики, пилки, напильники, лаки и ароматная древесина. И все тотчас забывалось… (Б.Окуджава. «Как Иван Иванович осчастливил целую страну»).
Если бы автор сказал, что у героя было увлечение, которому он предавался по вечерам, после работы, то «Хобби» в читательском созна-
нии оказалось бы точечным событием первого регистра, которое противопоставляется другим равноранговым ему событиям (прежде всего «Работе»), которые вместе образуют «Трудный быт». Но текст, минуя обобщающее называние, сразу погружает сознание читателя в насыщенную чувственными деталями атмосферу — рамки, лобзики, пилки, напильники, лаки, ароматная древесина, — и соответствующие ощущения, особенно запахи, сразу создают особый мирок со своим особым настроением.
Один из классических приемов виртуализации — использование «крупного плана», т.е. описание реальности, данное с такого близкого расстояния, что все перцептивное поле оказывается занятым без остатка предлагаемыми «камерой» деталями. В такой близи сознание подпадает под гипнотическое влияние самих вещей: в них начинает проступать завораживающая фактурность. Многократно возрастает поле-вое влияние вещи (К. Левин), поскольку она оказалась извлечена из широкого предметно-смыслового контекста, который управлял ею. Соответственно, пробуждаются инфантильные слои опыта встречи с вещной, довлеющей себе реальностью, которая увлекает инфантильное сознание своей непосредственной чувственной стороной (яркий свет, вкус, запах, шум), а не предметно-смысловой. Наконец, действуют подспудно и психофизиологические механизмы — очень близко экспонируемый объект вызывает рефлекторное напряжение мышц, отвечающих за конвергенцию глазных яблок, в результате чего быстро возникает их утомление и естественное стремление к их расслабленно-расфокусированному состоянию, соответствующее сновидному состоянию сознания.
Однако свой вклад в виртуализацию жизненного мира может вносить не одна лишь «чувственная ткань» сознания. Вновь рождающий-
ся жизненный мир может быстро наполниться ощущением полновесной реальности за счет возбуждения интеллектуального интереса2 или благодаря драматизму сюжетной интриги («что же будет дальше?»). Пример последнего случая — начало стихотворения В. Набокова, тяжело переживавшего вынужденную разлуку с Родиной:
Бывают ночи, только лягу,
В Россию поплывет кровать.
И вот ведут меня к оврагу,
Ведут к оврагу убивать.
_________________________
2Так «затягивают» в свой особый мир условия простой задачи: «Есть два стакана с одинаковым количеством молока и кофе; из стакана с молоком переливают ложку в стакан с кофе,перемешивают, а затем ложку смеси возвращают в стакан с молоком. Вопрос: чего будет больше — молока в кофе или кофе в молоке?»
_________________________
Для первичной виртуализации нового жизненного мира вовсе не обязательно достигать полноты описания всех его параметров (пространства, времени, субъекта-протагониста и т.д.). Сознание часто действует с лаконизмом мастера, которому позавидовал чеховский герой: «Горлышко отбитой бутылки блестит на мельничном колесе — вот и лунная ночь готова».
Переходы между регистрами
Существуют многообразные виды переходов между регистрами сознания. Прежде всего, необходимо различить переходы «вниз», от материнского регистра к дочернему, и переходы «вверх» — возвращение к материнскому регистру.
Операция перехода «вниз», когда он совершается впервые по маршруту от данного жизненного мира i к жизненному миру i+1, собственно, совпадает с операцией порождения последнего. Повторное перемещение сознания по тому же, уже проторенному пути не порождает, а лишь актуализирует в сознании жизненный мир i+1, хотя процесс этой актуализации сохраняет в себе черты первичной виртуализации, без которой жизненный мир не может стать убедительной субъективной реальностью.
Различие между переходами «вниз» и «вверх» — не формальное: и психологический смысл, и техника двух видов переходов очень разные. Если переход «вниз» завораживает сознание, виртуализируя миры представления, воображения, воспоминания, мечты и пр., то переход «вверх», напротив, расколдовывает, отрезвляет, пробуждает сознание, выводя его в пласты, приближенные к настоящей «здесь-и-теперь» действительности3 .
_________________________
3Разумеется,тут всегда возникает вопрос о критериях «настоящей реальности». Этот вопрос не психологического, а философского уровня анализа. На психологическом же уровне можно отметить, что сама конструкция «настоящей реальности» такова, что она созначается с состоянием бодрствования, по отношению к которому все остальные доступные сознанию миры квалифицируются как разновидности сновидных состояний.
_________________________
Кроме «вертикальных» переходов существуют переходы «горизонтальные». Например,в авантюрном романе в соответствии с логикой
хронотопа «дороги» случайно сменяют друг друга различные приключения (Бахтин, 1975). Переходы между мирами этих «случаев» обеспечиваются неожиданным появлением новых героев, обстоятельств, наступлением того или иного времени суток или года и т.д. В данной статье основное внимание будет уделено вертикальным переходам сознания.
Стоит различать также естественный, непроизвольный переход сознания и искусственный, произвольный, который уместно назвать психотехническим переводом. Гипнотизация, наведение транса, медитация и т.п. практики осуществляют психотехнический перевод сознания.
Переход или перевод сознания в другой регистр обычно начинается с оператора перехода. «Оператором перехода» мы будем называть такие элементы речевых конструкций (и стоящие за ними соответствующие движения сознания), которые создают формальные условия для перемещения сознания из одного регистра в другой4.
_________________________
4Обратим внимание, что вводимый нами термин схож с тем, который использует Б.М. Величковский (1986) с соавторами — «метаоператор порождения ментальных пространств».
_________________________
Типичные примеры операторов переходов «вниз» указывают на иное событийное время или место по сравнению с хронотопом повествователя и/или слушателя — «давным-давно», «в некотором царстве, в некотором государстве», «нынче в 5 утра», «а в то же самое время в Париже…», «когда ты еще был маленьким».
Переход «вверх» в художественных текстах зачастую оформляется прямыми указаниями на пробуждение. Яркое описание жизненного
мира неожиданно прерывается сообщением, что герой «проснулся», «очнулся», «оцепенелого сознанья коснулось тиканье часов» и т.п. Операторы переходов «вверх» часто носят рефлексивный характер, они «разоблачают» психологические процессы и операции, стоявшие в начале порождения виртуального жизненного мира, из которого созна ние сейчас намеревается возвращаться в реальный. «Что только не привидится…», «ну, сколько ни мечтай, а дело есть дело…».
Другой вариант подобного рефлексивного разоблачения — вскрытие собственно виртуального характера данного жизненного мира за счет его сопоставления с миром реальным. «И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало» (т.е. сказочный мир, окружая меня, казался настоящей реальностью, но все же материального «причастия» ему не состоялось — «в рот не попало»). Уже цитировавшееся ностальгическоестихотворение В. Набокова, где герой во сне оказывается на недоступной Родине и его ведут на расстрел, заканчивается такой строфой:
Но сердце, как бы ты хотело,
Чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
И весь в черемухе овраг.
«Чтоб это вправду было так» — вот оператор перехода «вверх», в мир яви в отличие от мира сновидческой мечты.
Переход «вверх» как бы берет весь предыдущий жизненный мир в кавычки, демонстрируя его искусственность, сделанность, произ-водность. Весь этот мир — «произведение», а вот и его «автор» — «разгоряченное воображение», «буйная фантазия», «сон», «мечта», «воспоминание» и т.п. Переход выставляет напоказ все швы, сам процесс производства, виртуализации производного жизненного мира, возвращая исходному жизненному миру статус настоящей реальности, узурпированный было миром произведения. Поэтому переход «вверх» почти всегда требует произвольного и рефлексивного усилия.
Переход «вниз», напротив, часто вуалирует «производственные процессы», старается быстро и незаметно проскочить мимо их упоминания и осознания, как бы соскальзывая в мир более низкого порядка. Таковы и естественные переходы, носящие непроизвольный характер (незаметно для себя задремал, замечтался, погрузился в воспоминания), таковы и разворачивающиеся в диалогическом режиме в ходе психотерапии процессы переживания (скажем, когда клиент, рассказывая о семейных неурядицах, неприметно «втягивается» в пространство собственного рассказа, теряет авторскую позицию и уже не столько повествует об эпизодах, сколько аффективно проигрывает их), таковы и приемы гипнотизации, и эстетические приемы создания отдельных миров в художественном произведении.
Гипнотическая и художественная техника копирует и культивирует естественные процессы «соскальзываний» сознания в «нижележащие» состояния и миры, когда в условиях утомления, аффективной захваченности, спешки снижается уровень рефлексивного контроля и произвольности и у субъекта не достает энергии, сил, времени для сознательной «цензуры» и санкционирования подступившей новой реальности. Она охватывает сознание де факто, не дожидаясь никаких позволений де юре.
Приведем пример. Эста, герой романа Арундати Роя «Бог мелочей», в задумчивости разглядывает лицо сестры:
…Поблескивание ее глаз5 в темноте. Маленький прямой нос. Ее рот, полные губы. Что-то в них раненное... Прекрасные обиженные губы. Прекрасные материнские губы, подумал Эста. Губы Амму. Которые поцеловали его руку, просунутую в зарешеченное окно поезда. Вагон первого класса, Мадрасский почтовый в Мадрас.
— До свидания, Эста. Храни тебя Бог, — сказали губы Амму. Ее силящиеся не плакать губы.
_________________________
5 Полужирным шрифтом выделены слова, которые будут использованы как маркеры актов сознания на рис. 1 и 3. — Ф.В.
_________________________
Началом перехода в мир воспоминаний служит здесь «ассоциация по сходству». Благодаря ей сознание героя сначала сравнивает, а потом отождествляет губы сестры и матери, «которые поцеловали его руку, просунутую в зарешеченное окно поезда». Оператором перехода выступает здесь невинное местоимение «которые». «Хитрость» в том, что в описании опускаются указания на начавшийся акт воспоминания. И именно этот пропуск оказывается значимым для создания мира сознания, где все зыбко, все двоится и реальности разных миров наплывают друг на друга по логике сновидения. «Которые» без опознавательных знаков времени («которые когда-то») с разбегу воспринимаются сознанием как продолжение настоящего времени.
Этот завуалированный, «скрытый» тип перехода подхватывается в данном примере резкой сменой позиции наблюдателя. «Которые поцеловали его руку, просунутую в зарешеченное окно поезда» — за счет этого указания обладатель руки, а вместе с ним и читательское сознание оказываются в пространстве поезда. И тут же, как только поцелуем едва-едва намечена реальность нового регистра (сцена «Прощание на вокзале»), начинается постепенное деловитое описание его деталей, которое не дает опомниться ошеломленному этим неожиданным перемещением сознанию: «Вагон первого класса. Мадрасский почтовый в Мадрас».
Подобными завуалированными переходами создаются сильные эстетические эффекты. В естественных процессах переживания типологически такие же бессознательные переходы и соединение жизнен-ных миров могут участвовать в создании столь же сильных психопатологических эффектов (спутанное сознание, бредовые состояния и т.п.).
В обсуждаемой стратиграфической модели процессы в каждом регистре протекают по четырем уровням сознания. С этой точки зрения переходы между регистрами осуществляются благодаря замыканию одного из четырех уровней первого регистра с одним из четырех уровней второго.По формально-комбинаторнойлогике можно, соответственно, выделить 16 возможных разновидностей переходов.Нет нужды специально анализировать все это множество, дадим лишь одну иллюстрацию, чтобы показать, как работает схема уровней сознания в деле анализа переходов между жизненными мирами (рис. 1).
Последний из представленных примеров может быть описан как I-с — II-с—переход, т.е. переход от уровня сознавания первого регистра (I-с) к уровню сознавания второго регистра (II-с).
Когда герой рассматривает лицо сестры, то соответствующие акты сознания и их результаты относятся преимущественно к уровню сознавания. Взгляд выделяет разные объекты — глаза, нос, губы. Потом осуществляется акт отождествления: «губы сестры» = «губы матери». Они называются дважды: сначала — «прекрасные материнские губы», а затем — «губы Амму». Первое называние еще принадлежит первому регистру сознания, где на уровне сознавания совершается акт сравнения и обнаружения сходства, акт узнавания в губах сестры губ матери, а второе называние относится уже ко второму регистру. Итак, первое тождество связывает два объекта на уровне сознавания первого регистра, а второе связывает объекты, размещенные на уровнях сознавания двух регистров, и по «желобу» этого тождества сознание соскальзывает в другой жизненный мир — воспоминание о прощании с матерью. Попробуем изобразить эти отношения на схеме.
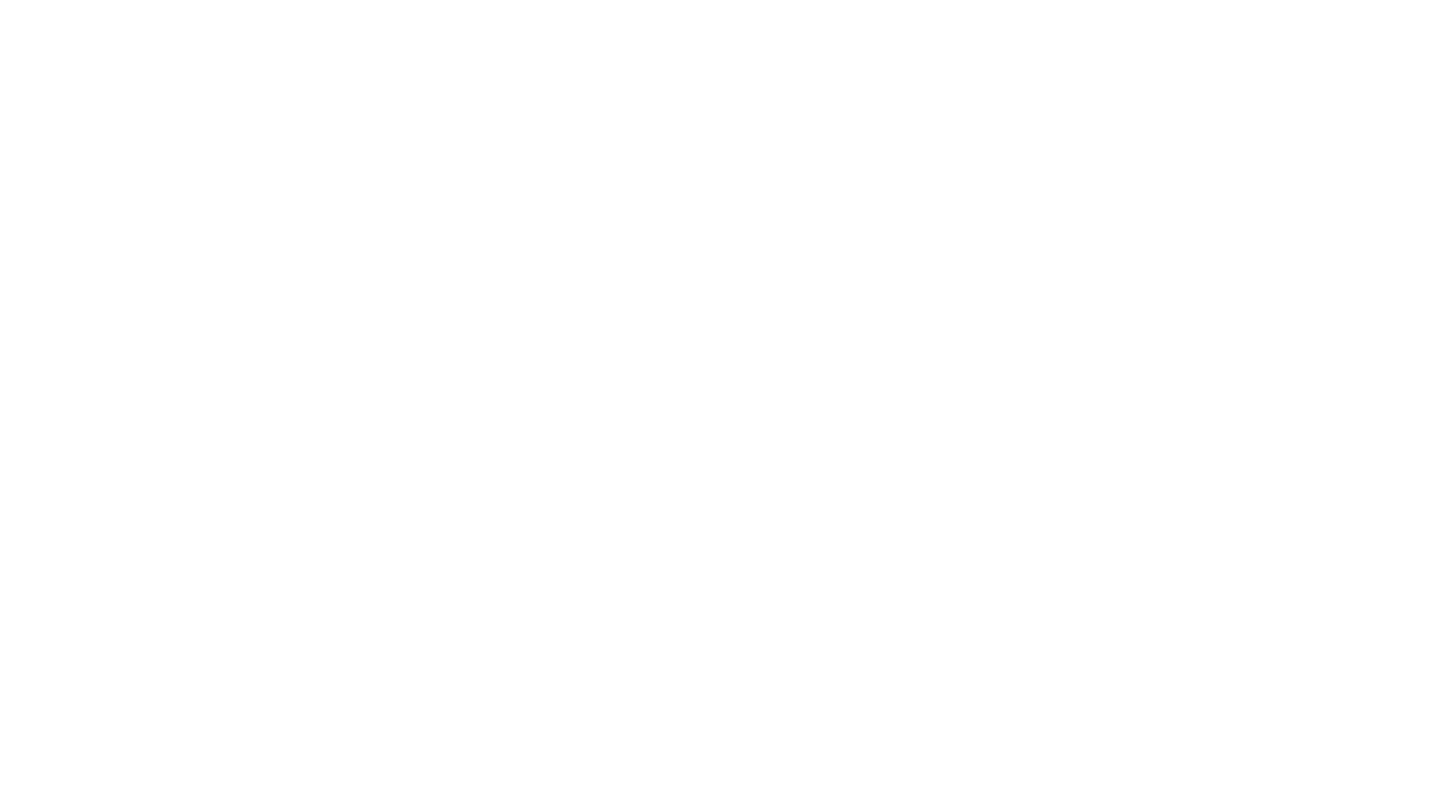
Сложные переходы
До сих пор мы представляли переход между регистрами упрощенно — как линейный, однонаправленный и одноактный процесс. На деле переходы подготавливаются загодя, а, уже осуществив переход, сознание часто совершает возвратно-поступательные движения. Переход, таким образом, может быть «широкополосным» и «челночным» процессом, реализующимся за несколько тактов, процессом, который не просто переправляет сознание из одного жизненного мира в другой, а связывает эти два жизненных мира в единую композицию.
На материале последнего примера можно показать некоторые нюансы этого процесса. Во-первых, у перехода во второй регистр есть пред-вестники, которые показывают, что вызревание и актуализация жизненного мира второго регистра происходят до того, как он явным образом будет представлен в сознании.
Приведенному выше эпизоду из романа предшествует следующий фрагмент:
(А) ...Эста, сидевший в ногах кровати, видел ее, не поворачивая головы. Слабый очерк фигуры. Четкая линия подбородка. Ключицы, кры- льями идущие от горловой впадины чуть не к самым краям плеч. Птица, которую не пускает лететь кожа… Она была мила ему. Ее волосы. Ее щеки. Ее маленькие, умные на вид ладони. Сестра его.
(В) В его голове болезненно застучало. Встречные поезда. Свет-тень- свет-тень на тебя, если сидишь у окна.
(С) Он сел еще прямей. И все равно мог ее видеть.
Фрагмент (В) явно выпадает из смыслового контекста ситуации, он ни с чем не связан, ни из чего не вытекает и никак не продолжается. В мире первого регистра это чужеродное включение, которое, стало быть, с точки зрения уровневого анализа должно быть помещено на уровне бессознательного этого регистра.
Только позже читатель узнает, что это бессознательное включение было посланником второго регистра, его предвестником, намеком на него. Полностью понятен смысл этого намека становится лишь тогда, когда воспоминание о прощании с матерью на вокзале стало самостоятельным жизненным миром в данном повествовании, но и в статусе «бессознательного» первого регистра намек уже оказывает свое влияние, если не смысловое, то аффективное, — всплывшее не к месту ощущение (резкая смена света и тьмы, «несущиеся навстречу поезда») порождает атмосферу тревоги, которая особым образом направляет все движение сознания — в сторону поиска источников этой тревоги.
Этот пример наглядно показывает одну из возможных форм присутствия одного жизненного мира в другом, в данном случае его присутствие в качестве события уровня бессознательного данного жизненного мира (на рис. 2 это графически выражено через помещение актов второго регистра в круг, который является как бы увеличением соответствующего события на уровне Б первого регистра). То, что в одном жизненном мире, в контексте последнего прощания сына и матери на вокзале, выглядит вполне осмысленно, «умопостижимо»
и связно, то, прорвавшись в чуждый контекст первого жизненного
мира, становится — «странностью», «безумием», «бессвязностью», «бессмысленностью», словом, становится бессознательным (не по-
тому, что вовсеотделено от сознания,а потому, что не может в «принимающем» жизненном мире быть поставлено в какую-то осмыслен-ную связь с другими элементами этого мира).
До сих пор мы представляли переход между регистрами упрощенно — как линейный, однонаправленный и одноактный процесс. На деле переходы подготавливаются загодя, а, уже осуществив переход, сознание часто совершает возвратно-поступательные движения. Переход, таким образом, может быть «широкополосным» и «челночным» процессом, реализующимся за несколько тактов, процессом, который не просто переправляет сознание из одного жизненного мира в другой, а связывает эти два жизненных мира в единую композицию.
На материале последнего примера можно показать некоторые нюансы этого процесса. Во-первых, у перехода во второй регистр есть пред-вестники, которые показывают, что вызревание и актуализация жизненного мира второго регистра происходят до того, как он явным образом будет представлен в сознании.
Приведенному выше эпизоду из романа предшествует следующий фрагмент:
(А) ...Эста, сидевший в ногах кровати, видел ее, не поворачивая головы. Слабый очерк фигуры. Четкая линия подбородка. Ключицы, кры- льями идущие от горловой впадины чуть не к самым краям плеч. Птица, которую не пускает лететь кожа… Она была мила ему. Ее волосы. Ее щеки. Ее маленькие, умные на вид ладони. Сестра его.
(В) В его голове болезненно застучало. Встречные поезда. Свет-тень- свет-тень на тебя, если сидишь у окна.
(С) Он сел еще прямей. И все равно мог ее видеть.
Фрагмент (В) явно выпадает из смыслового контекста ситуации, он ни с чем не связан, ни из чего не вытекает и никак не продолжается. В мире первого регистра это чужеродное включение, которое, стало быть, с точки зрения уровневого анализа должно быть помещено на уровне бессознательного этого регистра.
Только позже читатель узнает, что это бессознательное включение было посланником второго регистра, его предвестником, намеком на него. Полностью понятен смысл этого намека становится лишь тогда, когда воспоминание о прощании с матерью на вокзале стало самостоятельным жизненным миром в данном повествовании, но и в статусе «бессознательного» первого регистра намек уже оказывает свое влияние, если не смысловое, то аффективное, — всплывшее не к месту ощущение (резкая смена света и тьмы, «несущиеся навстречу поезда») порождает атмосферу тревоги, которая особым образом направляет все движение сознания — в сторону поиска источников этой тревоги.
Этот пример наглядно показывает одну из возможных форм присутствия одного жизненного мира в другом, в данном случае его присутствие в качестве события уровня бессознательного данного жизненного мира (на рис. 2 это графически выражено через помещение актов второго регистра в круг, который является как бы увеличением соответствующего события на уровне Б первого регистра). То, что в одном жизненном мире, в контексте последнего прощания сына и матери на вокзале, выглядит вполне осмысленно, «умопостижимо»
и связно, то, прорвавшись в чуждый контекст первого жизненного
мира, становится — «странностью», «безумием», «бессвязностью», «бессмысленностью», словом, становится бессознательным (не по-
тому, что вовсеотделено от сознания,а потому, что не может в «принимающем» жизненном мире быть поставлено в какую-то осмыслен-ную связь с другими элементами этого мира).
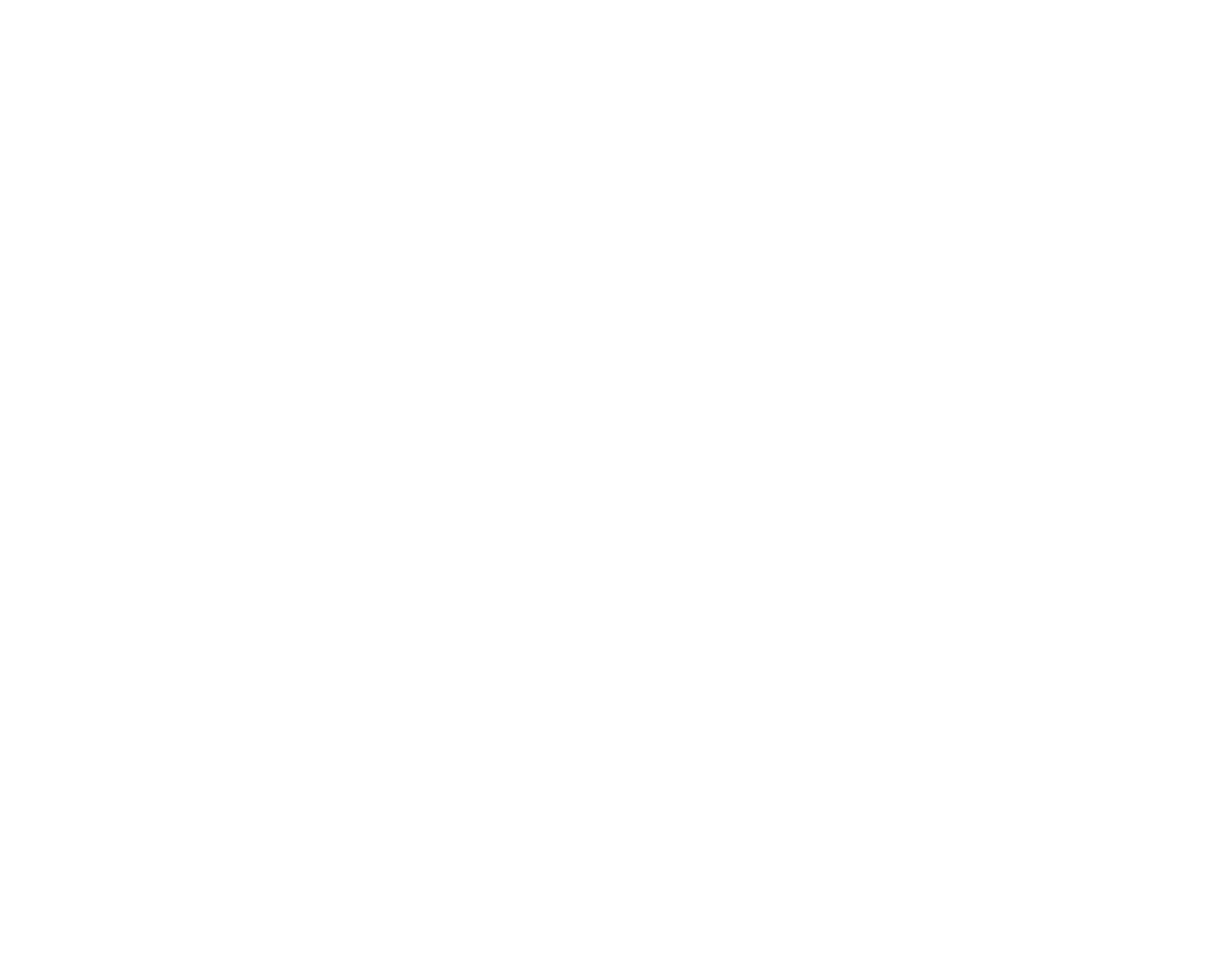
Однако описываемый переход усложняется не только предвестниками, т.е. предварительным появлением второго регистра в первом, но
и особыми формами напоминания о первом регистре, когда уже совершился переход сознания во второй.
—До свидания, Эста. Храни тебя Бог, — сказали губы Амму. Ее силящиеся не плакать губы.
Использование метонимии, приписывание слов не самой Амму, а ее губам, является в данном случае знаком, печатью первого регистра, напоминанием, что мир «Прощания на вокзале» — это виртуальная реальность, мир воспоминания, управляемый из мира первого регистра (ведь именно через отождествление губ сестры и матери произошел переход из первого во второй регистр).
И этот намек предшествует прямому «всплытию» сознания в первый регистр:
— До свидания, Эста. Храни тебя Бог, — сказали губы Амму. Ее силящиеся не плакать губы. В последний раз тогда он ее видел.
Далее, когда этим рефлексивным замечанием («В последний раз тогда он ее видел»)закреплена позиция сознания в первом регистре на платформе акта вспоминания начинает разворачиваться картина самого воспоминания — описание в прошедшем времени бывшего когда-то. Это воспоминание все больше погружается в саму вспоминаемую реальность, и очень постепенно исчезают следы связи с платформой, с которой ведется вспоминание:
В последний раз тогда он ее видел. Она стояла на платформе Приморс-кого вокзала в Кочине, подняв лицо к окну поезда. Кожа серая, тусклая, лишенная внутреннего света неоновыми огнями вокзала. Дневной свет был заслонен поездами по обе стороны платформы.
Этот пример показывает, что переход осуществляется не одним актом, а несколькими возвратно-поступательными движениями сознавания. Переход в данном случае происходит за 4 такта (рис. 2).
Аналогичные примеры можно привести и для случаев, когда сознание осуществляет переход «вверх». «Пробуждение» происходит не одним рывком, а постепенно, в этом интервале наблюдаются смешан-ные формы сознания, причудливо сочетающие в себе содержания и переживания обоих регистров.
Приведем подобный пример перехода «вверх»:
Алик открыл глаза. Он еще чувствовал жар, идущий от нагретой крыши ветхого особнячка в Афанасьевском, и мышцы еще как будто отзыва-лись на бурный пробег по деревянной лестнице казанцевского дома, и это воспоминание во сне оказалось богаче самой памяти, потому что он успел рассмотреть такие детали, которые давно растворились: треснутую чашку с портретом Карла Маркса, из которой пил хозяин дома, потерянное вскоре кольцо с мертвой зеленой бирюзой в эмалевом темно-синем касте на Иркиной руке, белую породистую прядь в темной голове десятилетнего казанцевского сына…( Л.Улицкая. «Веселые похороны»).
Герой уже открыл глаза, и началось его пробуждение. Однако чувствен-ная власть мира сновидения еще сильна — «жар», «мышцы». Если припи-сать сознанию героя (а не автора) удивление, что «воспоминание во сне оказалось богаче самой памяти», то главную «ноту» этого удивления мож-но отнести к уровню рефлексии мира бодрствования. Иначе: герой уже рефлексивно знает, что владеющие им ощущения и впечатления — остатки сновидения, и этим рефлексивным уровнем он уже «проснулся», но другие уровни сознания первого регистра еще не полностью «проснулись», «включились», еще дают властвовать актам мира сновидения.
В результате на время образуется такая конфигурация регистров сознания, когда номинальная власть принадлежит первому регистру, а реальная — второму, миру сна. На рис. 3 это условно выражено тем, что линии уровней сознания второго регистра нарисованы сплошными, а первого (кроме уровня Р) — пунктиром.
и особыми формами напоминания о первом регистре, когда уже совершился переход сознания во второй.
—До свидания, Эста. Храни тебя Бог, — сказали губы Амму. Ее силящиеся не плакать губы.
Использование метонимии, приписывание слов не самой Амму, а ее губам, является в данном случае знаком, печатью первого регистра, напоминанием, что мир «Прощания на вокзале» — это виртуальная реальность, мир воспоминания, управляемый из мира первого регистра (ведь именно через отождествление губ сестры и матери произошел переход из первого во второй регистр).
И этот намек предшествует прямому «всплытию» сознания в первый регистр:
— До свидания, Эста. Храни тебя Бог, — сказали губы Амму. Ее силящиеся не плакать губы. В последний раз тогда он ее видел.
Далее, когда этим рефлексивным замечанием («В последний раз тогда он ее видел»)закреплена позиция сознания в первом регистре на платформе акта вспоминания начинает разворачиваться картина самого воспоминания — описание в прошедшем времени бывшего когда-то. Это воспоминание все больше погружается в саму вспоминаемую реальность, и очень постепенно исчезают следы связи с платформой, с которой ведется вспоминание:
В последний раз тогда он ее видел. Она стояла на платформе Приморс-кого вокзала в Кочине, подняв лицо к окну поезда. Кожа серая, тусклая, лишенная внутреннего света неоновыми огнями вокзала. Дневной свет был заслонен поездами по обе стороны платформы.
Этот пример показывает, что переход осуществляется не одним актом, а несколькими возвратно-поступательными движениями сознавания. Переход в данном случае происходит за 4 такта (рис. 2).
Аналогичные примеры можно привести и для случаев, когда сознание осуществляет переход «вверх». «Пробуждение» происходит не одним рывком, а постепенно, в этом интервале наблюдаются смешан-ные формы сознания, причудливо сочетающие в себе содержания и переживания обоих регистров.
Приведем подобный пример перехода «вверх»:
Алик открыл глаза. Он еще чувствовал жар, идущий от нагретой крыши ветхого особнячка в Афанасьевском, и мышцы еще как будто отзыва-лись на бурный пробег по деревянной лестнице казанцевского дома, и это воспоминание во сне оказалось богаче самой памяти, потому что он успел рассмотреть такие детали, которые давно растворились: треснутую чашку с портретом Карла Маркса, из которой пил хозяин дома, потерянное вскоре кольцо с мертвой зеленой бирюзой в эмалевом темно-синем касте на Иркиной руке, белую породистую прядь в темной голове десятилетнего казанцевского сына…( Л.Улицкая. «Веселые похороны»).
Герой уже открыл глаза, и началось его пробуждение. Однако чувствен-ная власть мира сновидения еще сильна — «жар», «мышцы». Если припи-сать сознанию героя (а не автора) удивление, что «воспоминание во сне оказалось богаче самой памяти», то главную «ноту» этого удивления мож-но отнести к уровню рефлексии мира бодрствования. Иначе: герой уже рефлексивно знает, что владеющие им ощущения и впечатления — остатки сновидения, и этим рефлексивным уровнем он уже «проснулся», но другие уровни сознания первого регистра еще не полностью «проснулись», «включились», еще дают властвовать актам мира сновидения.
В результате на время образуется такая конфигурация регистров сознания, когда номинальная власть принадлежит первому регистру, а реальная — второму, миру сна. На рис. 3 это условно выражено тем, что линии уровней сознания второго регистра нарисованы сплошными, а первого (кроме уровня Р) — пунктиром.
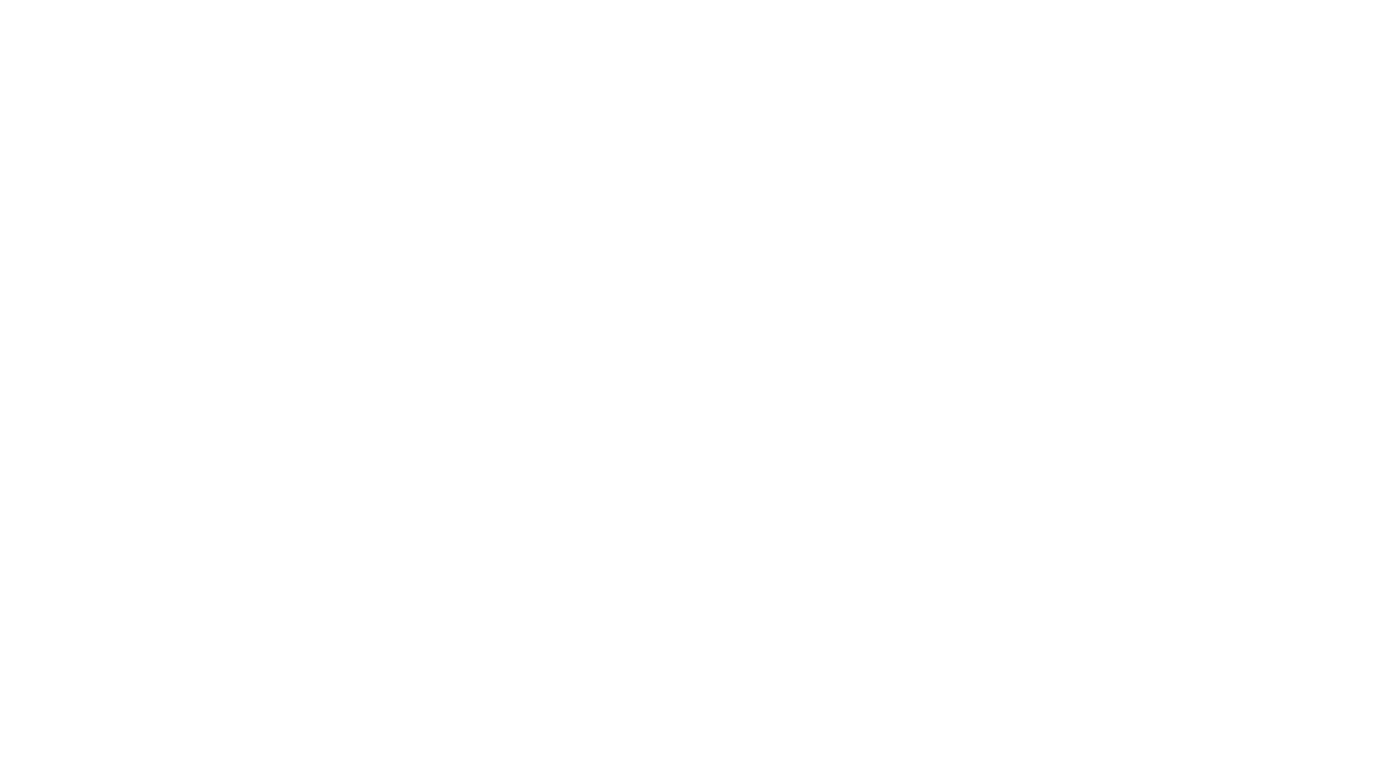
Отношения между регистрами и конфигурации сети регистров
В результате процессов порождения (актуализации) регистров сознания и различного вида переходов между регистрами в ходе развертывающейся работы переживания в сознании складывается функционально-динамическая сеть включенных в общую работу регистров. Характеризуя эту сеть как функционально-динамическую, мы имеем в виду, во-первых, что она не имеет никаких обязательных «морфологических» закреплений — ее функционирование может обеспечиваться самыми разными процессами; во-вторых, что вся эта система функционирует в работе переживания как единое целое; в-третьих, что такая сеть постоянно изменяет свою конфигурацию.
Попытаемся описать некоторые типы отношений между регистрами.
Включение — самый простой и распространенный вид отношений между регистрами. Такие отношения образуются, когда в последовательно раскрывающемся содержании жизненного мира выделяется смысловая точка, для которой как бы в скобках дается подробная иллюстрация, не прерывающая основной логики повествования. Иллюстрация должна быть достаточно подробной, чтобы сознание могло ощутить ее как особую психологическую реальность, но все же не настолько подробной и долгой, чтобы забыть о своем служебном, подчиненном положении. Таков диапазон включенного жизненного мира. До первой из этих границ описание остается в пределах материнского жизненного мира, но лишь становится более сочным, живописным, метафорическим. После второй происходит относительная эмансипация дочернего жизненного мира от материнского.
Матрешечные структуры. Если жизненный мир N включает в себя мир N+1, а тот, в свою очередь, — мир N+2 и т.д., то образуются мат- решечные структуры сознания.
Проницаемость/непроницаемость. Б.М. Величковский с соавторами в уже цитированной не раз статье вводит представление о «непроницаемости ментальных пространств». В качестве иллюстрации использует-ся классический пример высказывания «Гамлет хотел убить человека, скрывавшегося за занавесом». Непроницаемость ментальных пространств запрещает «осуществление формальной подстановки терми-нов. Так, хотя нам известно, что Гамлет убил скрывавшегося за занавесом Полония, мы не можем сказать «Гамлет хотел убить Полония» в силу непроницаемости созданного нашим воображением ментального пространства для наших же знаний о той же самой ситуации» (Величковский, 1986, с. 110). Приведенные выше примеры сложных, не одноактных переходов между регистрами, заставляют говорить не о «известной непроницаемости», как осторожно выражаются авторы (там же),а, скорее, о степенях и видах проницаемости регистров друг по отношению к другу, о разных типах представленности в одном жизненном мире других.
Подчинение. Включенный регистр находится в логико-психологичес-ком подчинении у материнского регистра. Если он эмансипируется, а за-тем и полностью обосабливается, то следы этого управления исчезают, но, когда понадобится осуществить переход «вверх» и вернуться к исходному регистру, сознанию придется восстановить эту управляющую связь.
Стили регистрового управления могут быть разными. «Авторитарное» управление держит подчиненный регистр под жестким контро-
лем. Приведем еще один пример.
Приведенный ниже фрагмент из рассказа В. Бианки начинается таким переходом «вниз»: «В первый раз это случилось со мной, когда мне было шесть лет» и заканчивается следующим переходом «вверх»: «Когда я теперь вспоминаю себя ребенком, именно так мне представляется тогдашнее ощущение…». Можно было ожидать, что внутри этих рамок авторский регистр отпустит на волю мир шестилетнего мальчика, даст ему побыть один на один с открывшейся ему реальностью. Но все происходит не так:
В первый раз это случилось со мной, когда мне было шесть лет.
Я играл в песке у моря. Никого не было рядом: мать присматривала за мной из окна. Домик наш стоял у самого берега.
Я делал из песка горки и проводил канавки. И хотя все мое внимание было поглощено этим интересным занятием, я вдруг заметил, какая сделалась кругом тишина. Наверное, подошел полдень, — солнце над моей головой стояло почти отвесно. Будто онемело все вокруг, — мне показалось, — весь мир. Хрустальной горой — почти зримой — воздвигалось до самого неба безмолвие. Как это произошло? Мгновенно или же исподволь, незаметно для меня, увлеченного своей забавой? Я не слышал птичьих голосов в саду нашего дома, — птицы молчали, прятались, затаились. Ничто не шевелилось там, в саду; укороченные, ис-синя-черные тени кустов и деревьев неподвижно лежали на дорожке. Даже ветер будто затаился. Столько живого было вокруг меня — птицы, цветы, деревья, — я чувствовал эту огромную, разнообразную жизнь, и все замерло, будто затаило дыхание и вслушивалось, вслушивалось: вот кто-то скажет слово — удивительное, неслыханное слово, — и ра-зом рухнет эта непонятная мне немота.
Когда я теперь вспоминаю себя ребенком, именно так мне представляется мое тогдашнее ощущение этого безмолвия… (В.Бианки. «Уммб»).
Субъект первого регистра (взрослый человек, вспоминающий детство как эпизод в ряду других — «в первый раз это случилось…»), ни
на секунду не забывая, кто он такой, входит в мир своего персонажа, «себя-шестилетнего», и описывает этот мир со своей точки зрения, своим языком (слабый намек на речь шестилетнего ребенка проявляется лишь дважды в уменьшительных суффиксах «горки», «канавки», а сказать, например, «воздвигалось до самого неба безмолвие», ко-нечно, может лишь взрослый). Жесткий контроль управляющего регистра осуществляется также за счет неуклонного использования прошедшего времени.
Примером намного более либерального стиля управления нижележащими регистрами может служить уже приводившийся фрагмент из повести Б. Окуджавы «Как Иван Иванович осчастливил целую страну»:
В результате процессов порождения (актуализации) регистров сознания и различного вида переходов между регистрами в ходе развертывающейся работы переживания в сознании складывается функционально-динамическая сеть включенных в общую работу регистров. Характеризуя эту сеть как функционально-динамическую, мы имеем в виду, во-первых, что она не имеет никаких обязательных «морфологических» закреплений — ее функционирование может обеспечиваться самыми разными процессами; во-вторых, что вся эта система функционирует в работе переживания как единое целое; в-третьих, что такая сеть постоянно изменяет свою конфигурацию.
Попытаемся описать некоторые типы отношений между регистрами.
Включение — самый простой и распространенный вид отношений между регистрами. Такие отношения образуются, когда в последовательно раскрывающемся содержании жизненного мира выделяется смысловая точка, для которой как бы в скобках дается подробная иллюстрация, не прерывающая основной логики повествования. Иллюстрация должна быть достаточно подробной, чтобы сознание могло ощутить ее как особую психологическую реальность, но все же не настолько подробной и долгой, чтобы забыть о своем служебном, подчиненном положении. Таков диапазон включенного жизненного мира. До первой из этих границ описание остается в пределах материнского жизненного мира, но лишь становится более сочным, живописным, метафорическим. После второй происходит относительная эмансипация дочернего жизненного мира от материнского.
Матрешечные структуры. Если жизненный мир N включает в себя мир N+1, а тот, в свою очередь, — мир N+2 и т.д., то образуются мат- решечные структуры сознания.
Проницаемость/непроницаемость. Б.М. Величковский с соавторами в уже цитированной не раз статье вводит представление о «непроницаемости ментальных пространств». В качестве иллюстрации использует-ся классический пример высказывания «Гамлет хотел убить человека, скрывавшегося за занавесом». Непроницаемость ментальных пространств запрещает «осуществление формальной подстановки терми-нов. Так, хотя нам известно, что Гамлет убил скрывавшегося за занавесом Полония, мы не можем сказать «Гамлет хотел убить Полония» в силу непроницаемости созданного нашим воображением ментального пространства для наших же знаний о той же самой ситуации» (Величковский, 1986, с. 110). Приведенные выше примеры сложных, не одноактных переходов между регистрами, заставляют говорить не о «известной непроницаемости», как осторожно выражаются авторы (там же),а, скорее, о степенях и видах проницаемости регистров друг по отношению к другу, о разных типах представленности в одном жизненном мире других.
Подчинение. Включенный регистр находится в логико-психологичес-ком подчинении у материнского регистра. Если он эмансипируется, а за-тем и полностью обосабливается, то следы этого управления исчезают, но, когда понадобится осуществить переход «вверх» и вернуться к исходному регистру, сознанию придется восстановить эту управляющую связь.
Стили регистрового управления могут быть разными. «Авторитарное» управление держит подчиненный регистр под жестким контро-
лем. Приведем еще один пример.
Приведенный ниже фрагмент из рассказа В. Бианки начинается таким переходом «вниз»: «В первый раз это случилось со мной, когда мне было шесть лет» и заканчивается следующим переходом «вверх»: «Когда я теперь вспоминаю себя ребенком, именно так мне представляется тогдашнее ощущение…». Можно было ожидать, что внутри этих рамок авторский регистр отпустит на волю мир шестилетнего мальчика, даст ему побыть один на один с открывшейся ему реальностью. Но все происходит не так:
В первый раз это случилось со мной, когда мне было шесть лет.
Я играл в песке у моря. Никого не было рядом: мать присматривала за мной из окна. Домик наш стоял у самого берега.
Я делал из песка горки и проводил канавки. И хотя все мое внимание было поглощено этим интересным занятием, я вдруг заметил, какая сделалась кругом тишина. Наверное, подошел полдень, — солнце над моей головой стояло почти отвесно. Будто онемело все вокруг, — мне показалось, — весь мир. Хрустальной горой — почти зримой — воздвигалось до самого неба безмолвие. Как это произошло? Мгновенно или же исподволь, незаметно для меня, увлеченного своей забавой? Я не слышал птичьих голосов в саду нашего дома, — птицы молчали, прятались, затаились. Ничто не шевелилось там, в саду; укороченные, ис-синя-черные тени кустов и деревьев неподвижно лежали на дорожке. Даже ветер будто затаился. Столько живого было вокруг меня — птицы, цветы, деревья, — я чувствовал эту огромную, разнообразную жизнь, и все замерло, будто затаило дыхание и вслушивалось, вслушивалось: вот кто-то скажет слово — удивительное, неслыханное слово, — и ра-зом рухнет эта непонятная мне немота.
Когда я теперь вспоминаю себя ребенком, именно так мне представляется мое тогдашнее ощущение этого безмолвия… (В.Бианки. «Уммб»).
Субъект первого регистра (взрослый человек, вспоминающий детство как эпизод в ряду других — «в первый раз это случилось…»), ни
на секунду не забывая, кто он такой, входит в мир своего персонажа, «себя-шестилетнего», и описывает этот мир со своей точки зрения, своим языком (слабый намек на речь шестилетнего ребенка проявляется лишь дважды в уменьшительных суффиксах «горки», «канавки», а сказать, например, «воздвигалось до самого неба безмолвие», ко-нечно, может лишь взрослый). Жесткий контроль управляющего регистра осуществляется также за счет неуклонного использования прошедшего времени.
Примером намного более либерального стиля управления нижележащими регистрами может служить уже приводившийся фрагмент из повести Б. Окуджавы «Как Иван Иванович осчастливил целую страну»:
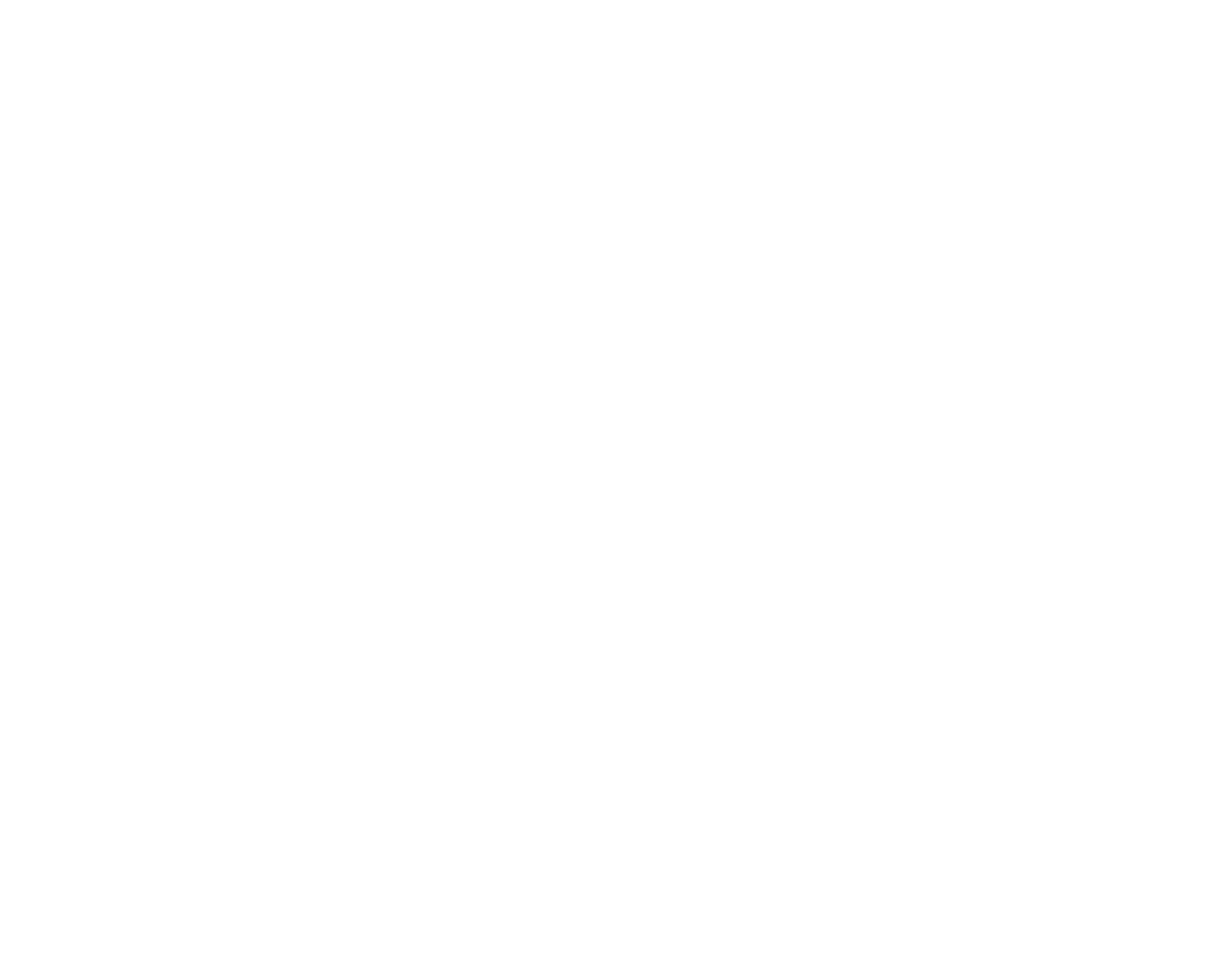
Быт был труден, да и обстановка была напряженная, какая-то тревожная. Но по вечерам, после работы, были рамки и всякие лобзики, пилки, напильники, лаки, ароматная древесина… И все тотчас забывалось — и как начальник кричал и топал ногами из-за какой-нибудь мелочи, и Ивану Иванычу все хотелось ему сказать: мол, что это вы так-то уж распоясываетесь? Но он, конечно, молчал, или кивал покорно, или говорил: «Виноват»… Да, все это над рамками забывалось. Забывалось, как сантехник сказал, дыша перегаром: «А и хрен с ней, что течет. У меня прокладок нету, понятно?» — и как он после работы в очереди за мясом…
«Мир лобзиков» — в данном отрывке подвергается приступообразным наплывам различных картин мира «трудного быта» (см. рис. 4).
По отношению к «миру лобзиков» все эти картины находятся в подчиненном положении. Управляющий механизм — акт переживания второго регистра — «забывалось». Каждый из подчиненных «забываемых» миров («Начальник-самодур», «Сантехник», «Очередь») быстро виртуализируется, оживляется, но так же быстро тускнеет, затихает, и наступает черед следующего акта забывания.
Этот стиль управления отличается от предыдущего тем, что функ-ция управления доверена здесь уровню переживания, а не произвольным актам уровня сознавания. Благодаря этому происходит быстрая и достаточно полная виртуализация подчиненных жизненных миров, язык, атмосфера, весь дух которых на время их актуализации достигают большой степени эмансипированности от управляющего жизнен-ного мира. При либеральном стиле управления нижележащий регистр отпускается на свободу, ему дают пожить своей жизнью, «надзор» вышестоящего регистра не вторгается в его пределы, не навязывает ему своих ценностей и интонаций.
Горизонт и ярус сознания
Анализ последнего примера дает материал для введения важной стратиграфической категории — понятия горизонта сознания.
В каком отношении между собой находятся подчиненные, обслуживающие миры под условными названиями III — «Начальник», IV — «Сантехник», V — «Очередь»? Прямых непосредственных связей и отношений между ними нет, и в то же время они явно родственны, явно являются мирами одного порядка. Эти миры объединяет одинаковое отношение с иерархически более высокими мирами — миром первого регистра, который можно условно назвать «Трудная жизнь», и второго регистра, который назовем «Мир лобзиков». По отношению ко второму регистру миры III, IV и V есть элементы группы «Всё» («И все тотчас забывалось»), к каждому из которых сознание применяет одну и ту же операцию «забвение». По отношению же к первому регистру все эти три мира являются показательными иллюстрациями элемента «Трудности быта». Если бы после слов «Быт был труден» рассказчика перебили вопросом: «А в чем, собственно, состояли трудности Ивана Ивановича? Приведите примеры», — то он мог бы начать перечисление конкретных проявлений этих трудностей и рассказать о сложностях во взаимоотношениях с начальством, хамстве жэковского сантехника, оскорбительных очередях.
Жизненные миры III, IV и V не находятся в иерархических, вертикальных отношениях между собой, они обладают одинаковым рангом, входят в один «горизонт сознания». Горизонт сознания, таким образом, это совокупность регистров сознания (и соответствующих жизненных миров), равноподчиненных ближайшему вышестоящему регистру. В одном горизонте сознания могут располагаться как регистры, не связан-ные между собой непосредственно, как в приведенном выше примере, так и связанные какой-либо связью, например, связью временной последовательности (после событий регистра А наступили события регистра В).
Графически эти различные варианты горизонтов сознания можно выразить с помощью двух разных схем (рис. 5).
«Мир лобзиков» — в данном отрывке подвергается приступообразным наплывам различных картин мира «трудного быта» (см. рис. 4).
По отношению к «миру лобзиков» все эти картины находятся в подчиненном положении. Управляющий механизм — акт переживания второго регистра — «забывалось». Каждый из подчиненных «забываемых» миров («Начальник-самодур», «Сантехник», «Очередь») быстро виртуализируется, оживляется, но так же быстро тускнеет, затихает, и наступает черед следующего акта забывания.
Этот стиль управления отличается от предыдущего тем, что функ-ция управления доверена здесь уровню переживания, а не произвольным актам уровня сознавания. Благодаря этому происходит быстрая и достаточно полная виртуализация подчиненных жизненных миров, язык, атмосфера, весь дух которых на время их актуализации достигают большой степени эмансипированности от управляющего жизнен-ного мира. При либеральном стиле управления нижележащий регистр отпускается на свободу, ему дают пожить своей жизнью, «надзор» вышестоящего регистра не вторгается в его пределы, не навязывает ему своих ценностей и интонаций.
Горизонт и ярус сознания
Анализ последнего примера дает материал для введения важной стратиграфической категории — понятия горизонта сознания.
В каком отношении между собой находятся подчиненные, обслуживающие миры под условными названиями III — «Начальник», IV — «Сантехник», V — «Очередь»? Прямых непосредственных связей и отношений между ними нет, и в то же время они явно родственны, явно являются мирами одного порядка. Эти миры объединяет одинаковое отношение с иерархически более высокими мирами — миром первого регистра, который можно условно назвать «Трудная жизнь», и второго регистра, который назовем «Мир лобзиков». По отношению ко второму регистру миры III, IV и V есть элементы группы «Всё» («И все тотчас забывалось»), к каждому из которых сознание применяет одну и ту же операцию «забвение». По отношению же к первому регистру все эти три мира являются показательными иллюстрациями элемента «Трудности быта». Если бы после слов «Быт был труден» рассказчика перебили вопросом: «А в чем, собственно, состояли трудности Ивана Ивановича? Приведите примеры», — то он мог бы начать перечисление конкретных проявлений этих трудностей и рассказать о сложностях во взаимоотношениях с начальством, хамстве жэковского сантехника, оскорбительных очередях.
Жизненные миры III, IV и V не находятся в иерархических, вертикальных отношениях между собой, они обладают одинаковым рангом, входят в один «горизонт сознания». Горизонт сознания, таким образом, это совокупность регистров сознания (и соответствующих жизненных миров), равноподчиненных ближайшему вышестоящему регистру. В одном горизонте сознания могут располагаться как регистры, не связан-ные между собой непосредственно, как в приведенном выше примере, так и связанные какой-либо связью, например, связью временной последовательности (после событий регистра А наступили события регистра В).
Графически эти различные варианты горизонтов сознания можно выразить с помощью двух разных схем (рис. 5).
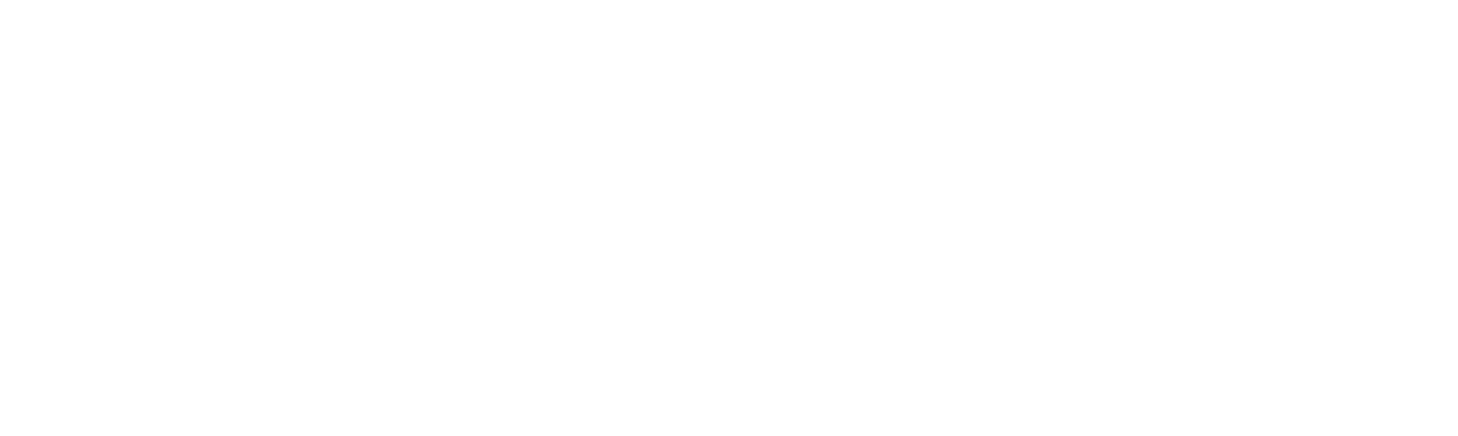
Признаком отнесенности регистров к одному горизонту сознания является возможность увязывания в одну логическую смысловую конструкцию их проекций на вышележащий, управляющий регистр. Например, будь фрагмент повести Б. Окуджавы жалобой героя психотерапевту, последний мог бы так связать в своем ответе все миры одного горизонта.
— Правильно ли я Вас понял, уважаемый Иван Иванович, что занятия рамками дают Вам возможность душевно преодолеть все эти оскорбительные тяготы, забыть на время и о начальнике, и о сантехнике, и об очередях?
Однако не все жизненные миры одного и того же порядка составляют горизонт сознания. Введем еще одно стратиграфическое понятие — яруса сознания. К одному ярусу сознания относятся все регистры, равноудаленные от одного вышестоящего регистра, независимо от того, связаны ли они непосредственно или опосредованно через вышестоящий регистр в некое смысловое целое. Следующая схема разъяснит разницу между понятиями горизонта и яруса сознания (см. рис. 6).
Глубина яруса определяется количеством вертикальных переходов от первого регистра к регистрам в данном ярусе. Регистры, относящи-еся к N-му ярусу, мы будем называть регистрами, или жизненными мирами N-гo порядка. Все регистры одного горизонта относятся к одному ярусу (являются регистрами одного порядка), но не все регистры одного яруса образуют один горизонт сознания. Например, на рис. 6 к 3-му ярусу относятся три регистра горизонта А, два регистра горизонта В и еще один регистр, который не входит ни в один из этих горизонтов, а сам является «родоначальником» регистров горизонта C.
Стратиграфический анализ позволяет увидеть работу переживания не как линейный процесс последовательно сменяющих друг друга состояний и актов, а как «сетевой» динамический процесс, создающий ходом своего движения многослойные образования сознания, которые, «остывая», образуют структуры сознания, во многом определяющие затем формы и направления протекания процессов сознания.
— Правильно ли я Вас понял, уважаемый Иван Иванович, что занятия рамками дают Вам возможность душевно преодолеть все эти оскорбительные тяготы, забыть на время и о начальнике, и о сантехнике, и об очередях?
Однако не все жизненные миры одного и того же порядка составляют горизонт сознания. Введем еще одно стратиграфическое понятие — яруса сознания. К одному ярусу сознания относятся все регистры, равноудаленные от одного вышестоящего регистра, независимо от того, связаны ли они непосредственно или опосредованно через вышестоящий регистр в некое смысловое целое. Следующая схема разъяснит разницу между понятиями горизонта и яруса сознания (см. рис. 6).
Глубина яруса определяется количеством вертикальных переходов от первого регистра к регистрам в данном ярусе. Регистры, относящи-еся к N-му ярусу, мы будем называть регистрами, или жизненными мирами N-гo порядка. Все регистры одного горизонта относятся к одному ярусу (являются регистрами одного порядка), но не все регистры одного яруса образуют один горизонт сознания. Например, на рис. 6 к 3-му ярусу относятся три регистра горизонта А, два регистра горизонта В и еще один регистр, который не входит ни в один из этих горизонтов, а сам является «родоначальником» регистров горизонта C.
Стратиграфический анализ позволяет увидеть работу переживания не как линейный процесс последовательно сменяющих друг друга состояний и актов, а как «сетевой» динамический процесс, создающий ходом своего движения многослойные образования сознания, которые, «остывая», образуют структуры сознания, во многом определяющие затем формы и направления протекания процессов сознания.
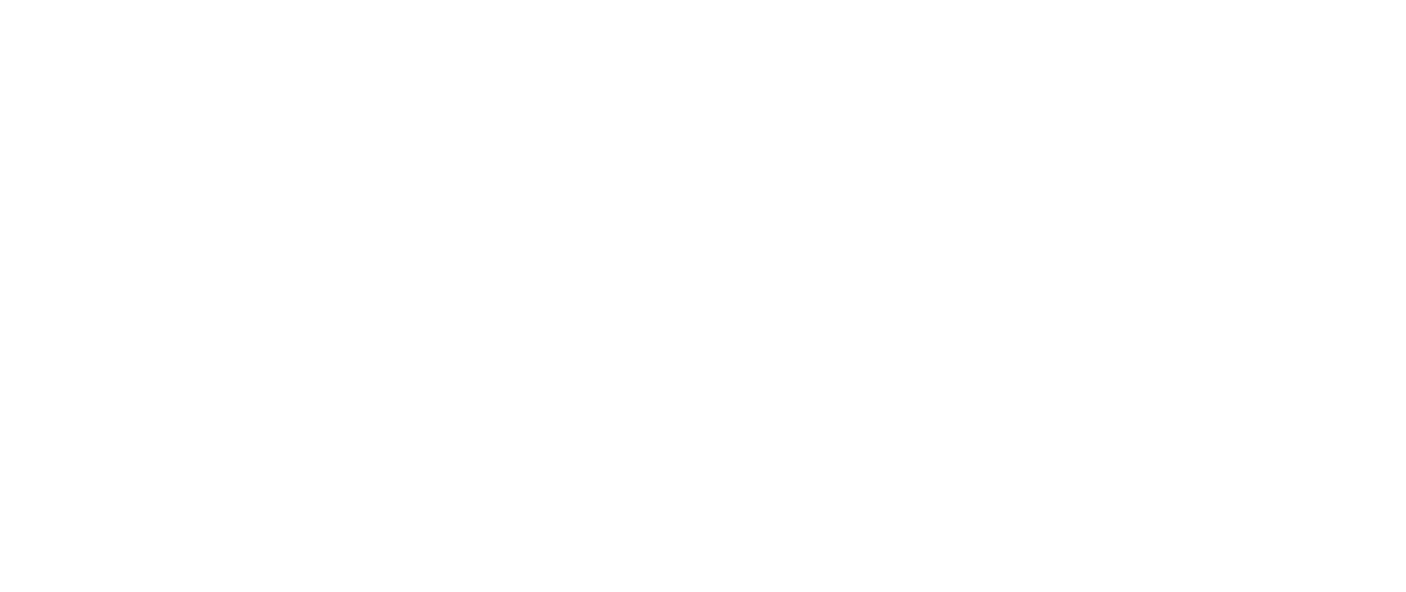
Метафора реки, которая часто используется в попытке помыслить по- ток переживания, явно недостаточна, поскольку не учитывает ни глубинного измерения переживания, ни преобразующего влияния его на сознание. Уж если опираться на геолого-географические метафоры, то процессы переживания порой могут быть уподоблены вулканической активности, движению ледников, перемещению платформ и т.п., т.е. таким формообразующим процессам, которые производят радикальные метаморфозы в строении земной коры.
В результате такого рода «геологических» жизненных процессов реальное строение сознания конкретного человека мало напоминает регулярные, в чинном порядке надстраивающиеся друг над другом слои. Напротив, сплошь и рядом в стратиграфической картине сознания наблюдаются различные аномалии — выпадение того или иного слоя, сдвиги толщ, разломы, трещины и т.п., в результате чего разрываются связи между изначально близкими регистрами и слоями сознания и, наоборот, в непосредственное соприкосновение входят далекие друг от друга слои. Это приводит к нарушению нормального тока душевных процессов, образованию циклических структур, лакунам, выпадениям и прочим рационально трудно объяснимым феноменам сознания.
Например, при погружении переживания в регистр N-гo порядка возможны такие цепочки переходов «вверх», что подлинного пробуждения, т.е. возвращения в первый регистр, не происходит и возникают «сомнамбулические» состояния, при которых человек, относительно адекватно функционируя в социальной реальности, психологически осуществляет программу виртуального жизненного мира. Психопатологические феномены, которые в выраженных случаях дают картину бреда или другую психотическую симптоматику, в более мягких фор-мах достаточно распространены. Стратиграфические категории позволяют представить гипотетические варианты формирования таких состояний (рис. 7).
В результате такого рода «геологических» жизненных процессов реальное строение сознания конкретного человека мало напоминает регулярные, в чинном порядке надстраивающиеся друг над другом слои. Напротив, сплошь и рядом в стратиграфической картине сознания наблюдаются различные аномалии — выпадение того или иного слоя, сдвиги толщ, разломы, трещины и т.п., в результате чего разрываются связи между изначально близкими регистрами и слоями сознания и, наоборот, в непосредственное соприкосновение входят далекие друг от друга слои. Это приводит к нарушению нормального тока душевных процессов, образованию циклических структур, лакунам, выпадениям и прочим рационально трудно объяснимым феноменам сознания.
Например, при погружении переживания в регистр N-гo порядка возможны такие цепочки переходов «вверх», что подлинного пробуждения, т.е. возвращения в первый регистр, не происходит и возникают «сомнамбулические» состояния, при которых человек, относительно адекватно функционируя в социальной реальности, психологически осуществляет программу виртуального жизненного мира. Психопатологические феномены, которые в выраженных случаях дают картину бреда или другую психотическую симптоматику, в более мягких фор-мах достаточно распространены. Стратиграфические категории позволяют представить гипотетические варианты формирования таких состояний (рис. 7).

На рис. 7а представлено «нормальное пробуждение», когда сознание, погрузившись до регистра D, осуществляет «штатное» возвращение в регистр В, а затем переход в изначальный регистр А. Рис. 7б изображает схему «мнимого пробуждения», при котором, дойдя до регистра D, сознание осуществляет переход «вниз», но местом этого перехода становится регистр А', жизненный мир которого является сновидческой имитацией исходного мира А. Например, ребенку, страдающему энурезом, может сниться, что он проснулся, встает, идет в туалет и т.д. При мнимом пробуждении психофизиологические функции вполне могут входить в обычный для бодрствования режим функционирования, и человек действует более или менее в соответствии с логикой реальности (обходит препятствия, ждет зеленого сигнала светофора и т.п.), хотя доминирующим остается один из нижних регистров сознания. Такой процесс с равным успехом можно назвать не мнимым пробуждением, а пробуждением в мнимую реальность, или сомнамбулическим пробуждением. В сознании и поведении человека происходит переплетение регистра довольно низкого порядка и первого регистра, но управляющим оказывается именно нижний регистр. Человек живет по внутренней логике сновидной реальности, хотя поведенчески вполне приспосабливаетсяк материальным условиям яви. На рисунке 8 представлена попытка графически выразить такое соотношение регистров.
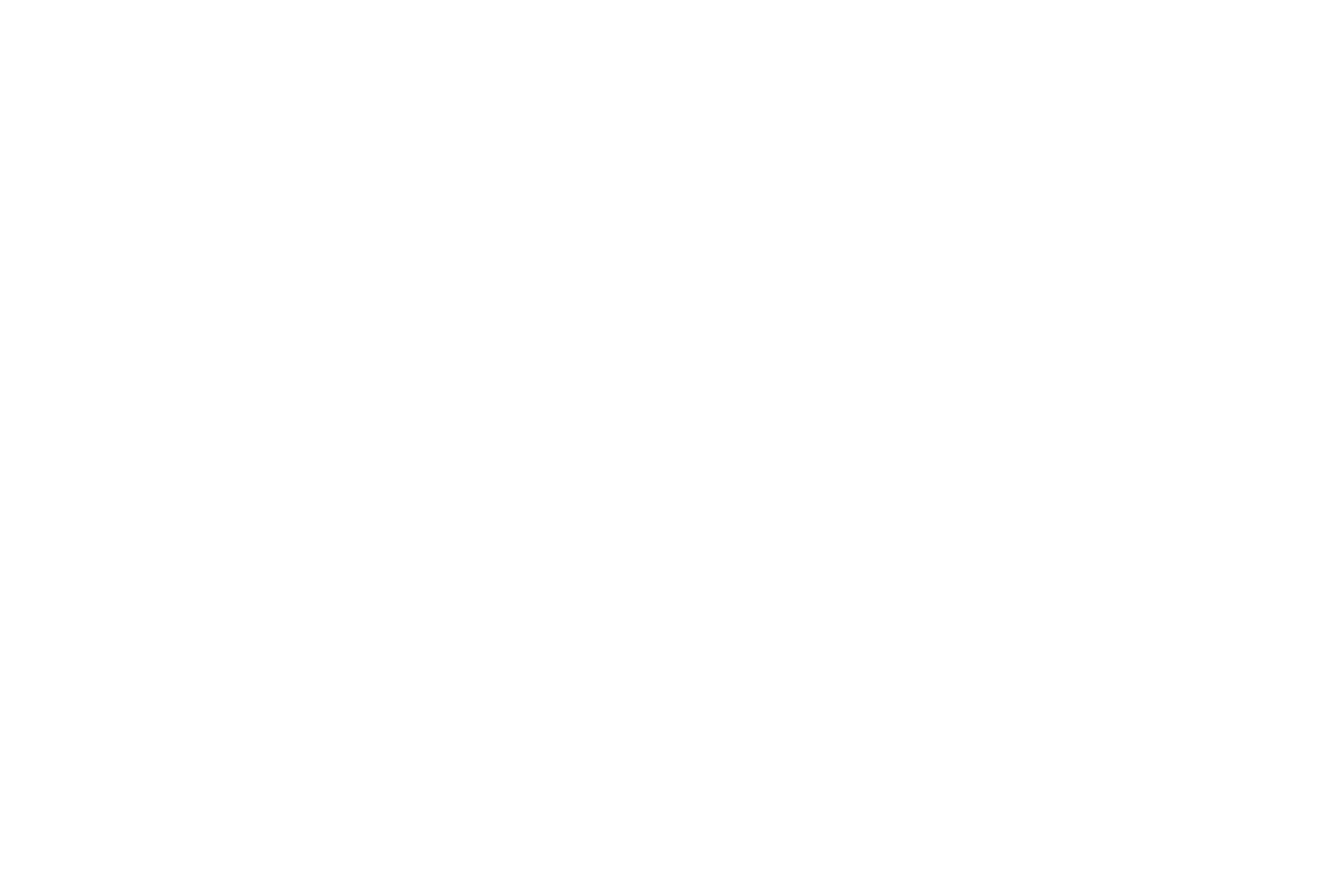
* * *
Итак, стратиграфическая модель сознания включает в себя следующие основные понятия: уровень (или режим функционирования) сознания, регистр сознания, переход между регистрами, горизонт сознания, ярус сознания, динамическая композиция регистров сознания. Эти теоретические представления предполагают выдвижение исследовательской программы их апробации на примере анализа конкретных процессов переживания. Примером такого рода исследования может служить проведенное автором изучение переживания горя (Василюк, 1991), где некоторые из стратиграфических понятий оказались очень продуктивными.Как показывает опыт учебной работы по подготовке специалистов в области психологического консультирования и психотерапии, представленная модель стратиграфии сознания оказывается очень удобным и эффективным инструментом развития полифонического смыслового слуха будущих психотерапевтов. Особенно она полезна при психотерапевтической работе со сложными, запутанными репликами пациента и при использовании гипнопсихотерапевтических методов.
ЛИТЕРАТУРА
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики // М.М. Бахтин. — М.: Художественная литература, 1975. — 504 с.
Бернштейн Н.А. О построении движений / Н.А. Бернштейн. — М.: Медгиз, 1947. — 254 с.
Бусыгина Н.П. «Трудная проблема» сознания в современной философии психологии // Труды по психологическому консультированию и психотерапии. — Вып. 2. — М.: ПИ РАО; МГППУ (в печати).
Василюк Ф.Е. Психология переживания / Ф.Е. Василюк. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — 200 с.
Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания и методы психологической помощи / Ф.Е. Василюк // Вопр. психол. — 1988. — № 5. — С. 27—37.
Василюк Ф.Е. Пережить горе / Ф.Е. Василюк // О человеческом в человеке. — М.: Политиздат, 1991. — С. 230—247.
Величковский Б.М. Образ мира как гетерархия систем отсчета / Б.М. Величковский // А.Н. Леонтьев и современная психология. — М., 1983. — С. 155—165.
Величковский Б.М. Представление реального и воображаемого пространства / Б.М. Величковский, И.В. Блинникова, Е.А. Лапин // Вопр. психол. — 1986. — № 3. — С. 103—112.
Генисаретский О.И. Виртуальные состояния в деятельности человека-оператора / О.И. Генисаретский, Н.А. Носов // Труды ГосНИИ гражданской авиации. Авиационная эргономика и подготовка летного состава. — М., 1986. — Вып. 253. — С. 147—155.
Зинченко В.П. Сознание как предмет и дело психологии / В.П. Зинченко // Методология и история психологии. — 2006. — Т. 1. — Вып. 1. — С. 207—231.
Каганов Ю.Т. Виртуальная реальность / Ю.Т. Каганов // Большой психол. словарь. — СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. — С. 72—73.
Карпов А.В. Метасистемная организация уровневых структур психики / А.В. Карпов. — М.: ИП РАН, 2004. — 504 с.
Леонтьев А.А. Общение как предмет психологического исследования / А.А. Леонтьев // Методологические проблемы социальной психологии. — М., 1975. — С. 106—123.
Никольская О.С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призму детского аутизма / О.С. Никольская. — М.: Центр лечебной педагогики, 2000. — 364 с.
Уилбер К. Безграничное: восточные и западные стратегии саморазвития человека / Перевод В. Данченко. — К.: PSYLIB, 2004.
Хант Г.Т. О природе сознания: С когнитивной, феноменологической и трансперсональной точки зрения / Г.Т. Хант. — М.: ООО «Издательство АСТ» и др., 2004. — 555 с.