Внимание! Этот текст находится в процессе редакции и адаптации для публикации на сайте. Настоящая версия предоставлена для предварительного ознакомления и может содержать неточности.
На расстоянии вытянутой руки (Категория понимания у митрополита Антония)
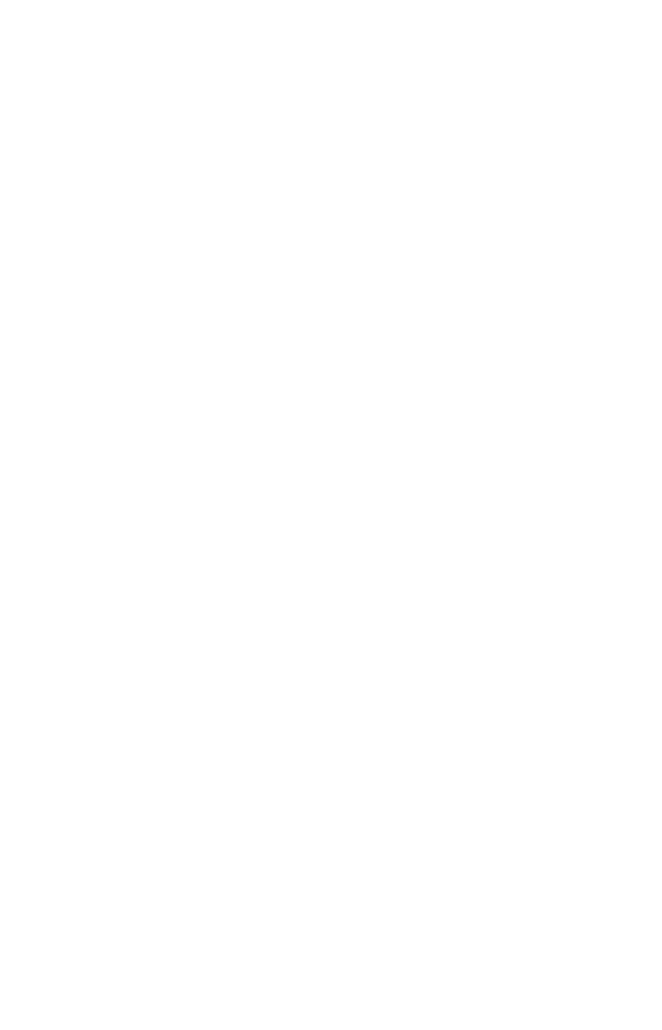
Размышляя о роли понимания в творчестве митрополита Антония, мне хотелось бы опереться не на академические соображения, а на личный опыт. Ровно 21 год назад, день в день, 29 сентября 1986 года, в Москве, только-только пробуждающейся от коммунистического морока, проходили групповые занятия выдающегося американского психолога Карла Роджерса. Его метод состоял в особом понимающем и принимающем слушании. Мне довелось в течение получаса быть в роли его пациента. И вот после этих тридцати минут слушания и понимания со мной стали происходить удивительные события.
Во-первых, в течение целого дня я испытывал состояние, для которого трудно подобрать точное слово, но, пожалуй, слово «счастье» тут ближе всего. Это было не просто отсутствие каких-то отрицательных эмоций, тревог и т. п., а нечто положительное и при этом не эфемерное, как обычные переменчивые настроения, но стойкое, надежное и убедительное внутреннее состояние. Радость бытия охватывала и мир вокруг, и мое тело. Внутри словно бы развязывались какие-то узелки, оттаивали замороженные участки, разглаживались остатки гримас от всяких неловкостей и смущений, плечи мои расправлялись, — одним словом, все и в душе, и в теле как-то открывалось навстречу этой радостибытия. В этом состоянии не было никакой экзальтации, восторга, нездорового возбуждения, оно было очень ровным, мирными устойчивым как надежное тепло южного вечера. Другое, что я обнаружил в себе, — проснувшийся вдруг живой интерес к людям, с которыми меня связывали в жизни непростые отношения. До этого я чувствовал отчужденность, а тут мне почему-то захотелось их понять, понять безотносительно ко мне и нашим отношениям, понять изнутри их собственной жизни, бескорыстно, как самобытный и самоценный мир.
Не стану перечислять все последствия этих тридцати минут понимания, отмечу лишь еще одну удивительную деталь. Сама беседа с Карлом Роджерсом велась на английском языке с помощью переводчика. Английский я знаю плохо, но через пять — семь минут нашего общения я вдруг почувствовал, что переводчик мне мешает. Я стал понимать не просто общий смысл речи моего собеседника, а тончайшие нюансы, оттенки и повороты его мысли. Увы, это освоение английского языка не сохранилось, но даже кратковременный прорыв был настолько удивителен, что невольно мне в голову стали приходить дерзкие ассоциации с даром языков, который был дан апостолам в день Пятидесятницы. Как бы то ни было, но факт остается фактом: когда человека понимают и принимают, в нем могут открываться дарования, которых он, вообще говоря, за собою не знал.
Итак, я хотел бы, удерживая внутри себя этот опыт, это воспоминание и благодарность чистому, ясному человеку, каким был Карл Роджерс, поразмышлять теперь о категории понимания у владыки Антония.
Философы, и прежде всего В. Дильтей, давно выяснили, что понимание есть особый способ познания и постижения мира, который существенно отличается от объяснения.
Во-первых, понимание всегда целостно, а не аналитично. Ему не требуется, разложив мир на элементы, заново собирать из них целое.
Во-вторых, понимание принимает свой предмет как нечто живое, не объективированное.
И, наконец, для того чтобы осуществился сам акт понимания, мы должны совершить не только и даже не столько интеллектуальное, ментальное усилие, ибо «орган понимания» — не ум или, по крайней мере, не только ум; мы должны откликнуться душой, привлечь весь наш опыт, всю нашу жизнь — вот чем мы слушаем и понимаем другого человека. Доклады Фредерики де Грааф и отца Христофора о работе в хосписе убедительно это показывают. Невозможно быть рядом с умирающим человеком, пытаться понять, вникнуть в его состояние и делать это интеллектуальным усилием. Это ситуация, где ты должен всем собой, всей своей жизнью, всеми силами своей души и всем ее бессилием войти в опыт, в котором пребывает умирающий.
Мне кажется, что мышление митрополита Антония вообще — это мышление понимающее, а не объясняющее. Это важнейшая, существеннейшая характеристика его мысли, которой чужды схемы, наукообразные категории, принудительные логические выводы. И при этом совершенно отчетливо чувствуется, что митрополит Антоний — выдающийся мыслитель, мысль его — дисциплинированна, внутренне обязательна, лишена случайных произвольных ходов и поверхностных ассоциаций. Это мысль, которая на наших глазах из доступного всем материала совершает настоящие богословские, антропологические открытия, открытия в области философии природы и материи.
Владыка всегда говорил так, как говорят, только вступив во внутренний контакт с предметом, встретившись с ним всей своей душой, всем опытом. Когда Владыка говорит о Боге, важно не только то, что он говорит, но и то, как. А говорит он так, что Богстановится для нас живым, живым не в том высоком, богословском смысле слова, а в смысле вполне житейском, почти обыденном.
Владыка обладал удивительным даром присутствия. Это чувствуется особенно, когда читаешь его книги, ведь книга это не устная беседа с глазу на глаз, она заведомо разделяет собой читателя и автора, но здесь возникает ощущение почти физического присутствия Владыки рядом. Более того, это переживается так естественно, что невольнозабываешь, какая в действительности это удивительная и таинственная вещь, редкая дажепри непосредственном контактес человеком. Я знаю это не только на собственном опыте, но и со слов других людей. Думаю, что это особый дар, связанный, может быть, с тем изначальным опытом встречи со Христом, о котором Владыка часто рассказывал как о главном событии своей жизни, и вокруг которого кристаллизовался весь его духовный мир. Мы много раз слышали и читали о том, как однажды, еще в отрочестве, он почувствовал присутствие Христа совсем близко, рядом, может быть, на расстоянии вытянутой руки. И вот это расстояние каким-то особенным образом устроило оптику его души. Владыка обрел способность видеть другого человека на той же дистанции, не вдали, где этот человек уже «он», но и не чересчур близко, где начинается симбиотическая слитность, а именно — на расстоянии вытянутой руки. Собственно говоря, этоесть дистанция дружеского общения,это дистанция «Я — Ты» отношений, и мне кажется, что именно она стала той главной «длиной волны», на которой он слушал Бога, мир и других людей.
Владыка сохранял удивительную способность в любых официальных и неофициальных ситуациях, в общении с людьми высокопоставленными и социально обездоленными оставаться на этой дружеской волне. Видимо, не случайно и на нашей конференции прозвучал доклад о богословии дружбы.
Вот характерный эпизод.Мне посчастливилось побывать на конференции Сурожской епархии в Оксфорде в 2000 году. Во время перерыва в столовой образовалась очередь. В хвосте этой очереди я заметил митрополита Антония. Он стоял, как все, держа свой поднос, и это было так естественно, что никому не приходило в голову уступить ему место, пропустить без очереди. С точки зрения российского опыта, это выглядело удивительно. Помню,как в одиниз приездов в Москву епископа Василия Осборна, в котором чувствовалась та же «сурожская закваска», батюшка из российской глубинки, приглашая его к себе погостить, говорил: «Владыка! Да Вы там у себя не знаете, как встречают дорогих гостей! Да Вам у нас дорожку ковровую расстелют от самой машины через грязь нашу российскую! Вот тогда Вы почувствуете, кто Вы такой, что такое — епископ!»
Это дружеское расстояние, о котором идет речь, есть расстояние искренности. Труднее всего соврать именно тогда, когда человек стоит рядом и смотрит тебе в лицо. Известно, насколько Владыка ценил искренность в отношениях. Но дружеские отношения совсем не обязательно отношения благостные. «Не люблю друга-потаковщика, а лучше люблю друга-стреч-ника», говорила героиня одного произведения Н. С. Лескова. Вдумываясь в духовный опыт св. Силуана Афонского, Владыка писал, что есть ситуации, когда можно стоять перед Богом и говорить Ему: «Я Тебя не понимаю!» Искреннее непонимание, исходящее из правды внутреннего опыта, лучше притворного согласия.
Вспомним, что «искренний» на церковно-славянском означает «ближний». Однако понимание не только исходит из опыта близости, оно само творит этот опыт. Мыприобщаемся тому, что поняли, оно становится нам близким, родным, как говорит митрополит Антоний, придавая этому слову исключительное значение.
Особенно ощутимо это в его отношении к материальному миру. Даже на него Владыка распространяет понимающее, а не объективирующее, объясняющее отношение. Понимать Мир это значит чувствовать его живым, в глубине одушевленным, способным каким-то образом отозваться на слово, заботу и уважение. Когда Владыка вдумывается в некоторые евангельские чудеса, перед нами раскрывается богословие материи, в которомматерия оказывается совсемне косной, а живой, откликающейся, родственной нам. Например, он подмечает, что Господь говорит буре: «Утихни, перестань!»1 так, словно обращается к ребенку или, может быть, домашнему псу. В беседе «О подвиге любви» он замечает, что в Воплощении все тварное сроднилось со Христом, что в Его теле «все сотворенное, все, что нам кажется мертвым, нечувственным, вдруг себя узнало обоженным, соединенным с Богом»2. Обратим внимание на показательный стилистический нюанс: Владыка не говорит, что вещи и стихии СТАЛИ обоженными, он говорит — они УЗНАЛИ себя обоженными. Этим выбором слова Владыка как бы утверждает за вещами достоинство личностного бытия. Мы видим здесь персонологию материи, которая является закономерным результатом последовательно евангельского способа мышления.
_________________________________
1...встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Мф 8:26. См.: Школа молитвы. Клин, 2004. С. 170, 340.
2Беседы о вере и Церкви. М., 1991. С. 193.
_________________________________
Антропология митрополита Антония — это тоже понимающая антропология. Пытаясь вникнуть в слова Владыки о настоящем слушании и настоящем, глубоком понимании другого человека, необходимо помнить, что речь идет не об умственном акте, а об акте экзистенциальном, акте утверждения человека в его бытии. Это не то широко распространенное в нашей жизни монологическое, отстраненное понимание, которое подчас принимает различные формы домыслов и догадок в обход воли другого, его готовности открыться, довериться нам.
Понимание есть утверждение человека, в то время, как непонимание всегда — отрицание его. Вспомним, как Владыка толкует притчу о блудном сыне. Когда сын говорит: Отче! дай мне следующую мне часть имения...3, то смысл этой просьбы таков: «Мне нужен не ты, а лишь то, что останется после тебя. Умри, ты мне не нужен». Вот грубая подоплека этих слов и предельная форма отрицания4.
_________________________________
3 Лк 15:12.
4 См., напр.: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Клин, 2001. С. 193.
_________________________________
Но коль скоро опытная реальность нашего душевного зрения такова, может быть, стоит не только сокрушаться, а попробовать вдуматься именно в эту реальность, вдуматься в опыт наших неудач и попытаться извлечь из него какие-то уроки.
Во-первых, в течение целого дня я испытывал состояние, для которого трудно подобрать точное слово, но, пожалуй, слово «счастье» тут ближе всего. Это было не просто отсутствие каких-то отрицательных эмоций, тревог и т. п., а нечто положительное и при этом не эфемерное, как обычные переменчивые настроения, но стойкое, надежное и убедительное внутреннее состояние. Радость бытия охватывала и мир вокруг, и мое тело. Внутри словно бы развязывались какие-то узелки, оттаивали замороженные участки, разглаживались остатки гримас от всяких неловкостей и смущений, плечи мои расправлялись, — одним словом, все и в душе, и в теле как-то открывалось навстречу этой радостибытия. В этом состоянии не было никакой экзальтации, восторга, нездорового возбуждения, оно было очень ровным, мирными устойчивым как надежное тепло южного вечера. Другое, что я обнаружил в себе, — проснувшийся вдруг живой интерес к людям, с которыми меня связывали в жизни непростые отношения. До этого я чувствовал отчужденность, а тут мне почему-то захотелось их понять, понять безотносительно ко мне и нашим отношениям, понять изнутри их собственной жизни, бескорыстно, как самобытный и самоценный мир.
Не стану перечислять все последствия этих тридцати минут понимания, отмечу лишь еще одну удивительную деталь. Сама беседа с Карлом Роджерсом велась на английском языке с помощью переводчика. Английский я знаю плохо, но через пять — семь минут нашего общения я вдруг почувствовал, что переводчик мне мешает. Я стал понимать не просто общий смысл речи моего собеседника, а тончайшие нюансы, оттенки и повороты его мысли. Увы, это освоение английского языка не сохранилось, но даже кратковременный прорыв был настолько удивителен, что невольно мне в голову стали приходить дерзкие ассоциации с даром языков, который был дан апостолам в день Пятидесятницы. Как бы то ни было, но факт остается фактом: когда человека понимают и принимают, в нем могут открываться дарования, которых он, вообще говоря, за собою не знал.
Итак, я хотел бы, удерживая внутри себя этот опыт, это воспоминание и благодарность чистому, ясному человеку, каким был Карл Роджерс, поразмышлять теперь о категории понимания у владыки Антония.
Философы, и прежде всего В. Дильтей, давно выяснили, что понимание есть особый способ познания и постижения мира, который существенно отличается от объяснения.
Во-первых, понимание всегда целостно, а не аналитично. Ему не требуется, разложив мир на элементы, заново собирать из них целое.
Во-вторых, понимание принимает свой предмет как нечто живое, не объективированное.
И, наконец, для того чтобы осуществился сам акт понимания, мы должны совершить не только и даже не столько интеллектуальное, ментальное усилие, ибо «орган понимания» — не ум или, по крайней мере, не только ум; мы должны откликнуться душой, привлечь весь наш опыт, всю нашу жизнь — вот чем мы слушаем и понимаем другого человека. Доклады Фредерики де Грааф и отца Христофора о работе в хосписе убедительно это показывают. Невозможно быть рядом с умирающим человеком, пытаться понять, вникнуть в его состояние и делать это интеллектуальным усилием. Это ситуация, где ты должен всем собой, всей своей жизнью, всеми силами своей души и всем ее бессилием войти в опыт, в котором пребывает умирающий.
Мне кажется, что мышление митрополита Антония вообще — это мышление понимающее, а не объясняющее. Это важнейшая, существеннейшая характеристика его мысли, которой чужды схемы, наукообразные категории, принудительные логические выводы. И при этом совершенно отчетливо чувствуется, что митрополит Антоний — выдающийся мыслитель, мысль его — дисциплинированна, внутренне обязательна, лишена случайных произвольных ходов и поверхностных ассоциаций. Это мысль, которая на наших глазах из доступного всем материала совершает настоящие богословские, антропологические открытия, открытия в области философии природы и материи.
Владыка всегда говорил так, как говорят, только вступив во внутренний контакт с предметом, встретившись с ним всей своей душой, всем опытом. Когда Владыка говорит о Боге, важно не только то, что он говорит, но и то, как. А говорит он так, что Богстановится для нас живым, живым не в том высоком, богословском смысле слова, а в смысле вполне житейском, почти обыденном.
Владыка обладал удивительным даром присутствия. Это чувствуется особенно, когда читаешь его книги, ведь книга это не устная беседа с глазу на глаз, она заведомо разделяет собой читателя и автора, но здесь возникает ощущение почти физического присутствия Владыки рядом. Более того, это переживается так естественно, что невольнозабываешь, какая в действительности это удивительная и таинственная вещь, редкая дажепри непосредственном контактес человеком. Я знаю это не только на собственном опыте, но и со слов других людей. Думаю, что это особый дар, связанный, может быть, с тем изначальным опытом встречи со Христом, о котором Владыка часто рассказывал как о главном событии своей жизни, и вокруг которого кристаллизовался весь его духовный мир. Мы много раз слышали и читали о том, как однажды, еще в отрочестве, он почувствовал присутствие Христа совсем близко, рядом, может быть, на расстоянии вытянутой руки. И вот это расстояние каким-то особенным образом устроило оптику его души. Владыка обрел способность видеть другого человека на той же дистанции, не вдали, где этот человек уже «он», но и не чересчур близко, где начинается симбиотическая слитность, а именно — на расстоянии вытянутой руки. Собственно говоря, этоесть дистанция дружеского общения,это дистанция «Я — Ты» отношений, и мне кажется, что именно она стала той главной «длиной волны», на которой он слушал Бога, мир и других людей.
Владыка сохранял удивительную способность в любых официальных и неофициальных ситуациях, в общении с людьми высокопоставленными и социально обездоленными оставаться на этой дружеской волне. Видимо, не случайно и на нашей конференции прозвучал доклад о богословии дружбы.
Вот характерный эпизод.Мне посчастливилось побывать на конференции Сурожской епархии в Оксфорде в 2000 году. Во время перерыва в столовой образовалась очередь. В хвосте этой очереди я заметил митрополита Антония. Он стоял, как все, держа свой поднос, и это было так естественно, что никому не приходило в голову уступить ему место, пропустить без очереди. С точки зрения российского опыта, это выглядело удивительно. Помню,как в одиниз приездов в Москву епископа Василия Осборна, в котором чувствовалась та же «сурожская закваска», батюшка из российской глубинки, приглашая его к себе погостить, говорил: «Владыка! Да Вы там у себя не знаете, как встречают дорогих гостей! Да Вам у нас дорожку ковровую расстелют от самой машины через грязь нашу российскую! Вот тогда Вы почувствуете, кто Вы такой, что такое — епископ!»
Это дружеское расстояние, о котором идет речь, есть расстояние искренности. Труднее всего соврать именно тогда, когда человек стоит рядом и смотрит тебе в лицо. Известно, насколько Владыка ценил искренность в отношениях. Но дружеские отношения совсем не обязательно отношения благостные. «Не люблю друга-потаковщика, а лучше люблю друга-стреч-ника», говорила героиня одного произведения Н. С. Лескова. Вдумываясь в духовный опыт св. Силуана Афонского, Владыка писал, что есть ситуации, когда можно стоять перед Богом и говорить Ему: «Я Тебя не понимаю!» Искреннее непонимание, исходящее из правды внутреннего опыта, лучше притворного согласия.
Вспомним, что «искренний» на церковно-славянском означает «ближний». Однако понимание не только исходит из опыта близости, оно само творит этот опыт. Мыприобщаемся тому, что поняли, оно становится нам близким, родным, как говорит митрополит Антоний, придавая этому слову исключительное значение.
Особенно ощутимо это в его отношении к материальному миру. Даже на него Владыка распространяет понимающее, а не объективирующее, объясняющее отношение. Понимать Мир это значит чувствовать его живым, в глубине одушевленным, способным каким-то образом отозваться на слово, заботу и уважение. Когда Владыка вдумывается в некоторые евангельские чудеса, перед нами раскрывается богословие материи, в которомматерия оказывается совсемне косной, а живой, откликающейся, родственной нам. Например, он подмечает, что Господь говорит буре: «Утихни, перестань!»1 так, словно обращается к ребенку или, может быть, домашнему псу. В беседе «О подвиге любви» он замечает, что в Воплощении все тварное сроднилось со Христом, что в Его теле «все сотворенное, все, что нам кажется мертвым, нечувственным, вдруг себя узнало обоженным, соединенным с Богом»2. Обратим внимание на показательный стилистический нюанс: Владыка не говорит, что вещи и стихии СТАЛИ обоженными, он говорит — они УЗНАЛИ себя обоженными. Этим выбором слова Владыка как бы утверждает за вещами достоинство личностного бытия. Мы видим здесь персонологию материи, которая является закономерным результатом последовательно евангельского способа мышления.
_________________________________
1...встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Мф 8:26. См.: Школа молитвы. Клин, 2004. С. 170, 340.
2Беседы о вере и Церкви. М., 1991. С. 193.
_________________________________
Антропология митрополита Антония — это тоже понимающая антропология. Пытаясь вникнуть в слова Владыки о настоящем слушании и настоящем, глубоком понимании другого человека, необходимо помнить, что речь идет не об умственном акте, а об акте экзистенциальном, акте утверждения человека в его бытии. Это не то широко распространенное в нашей жизни монологическое, отстраненное понимание, которое подчас принимает различные формы домыслов и догадок в обход воли другого, его готовности открыться, довериться нам.
Понимание есть утверждение человека, в то время, как непонимание всегда — отрицание его. Вспомним, как Владыка толкует притчу о блудном сыне. Когда сын говорит: Отче! дай мне следующую мне часть имения...3, то смысл этой просьбы таков: «Мне нужен не ты, а лишь то, что останется после тебя. Умри, ты мне не нужен». Вот грубая подоплека этих слов и предельная форма отрицания4.
_________________________________
3 Лк 15:12.
4 См., напр.: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Клин, 2001. С. 193.
_________________________________
Но коль скоро опытная реальность нашего душевного зрения такова, может быть, стоит не только сокрушаться, а попробовать вдуматься именно в эту реальность, вдуматься в опыт наших неудач и попытаться извлечь из него какие-то уроки.
Так что же нам мешает понимать человека и утверждать его своим пониманием?
Во-первых, мне кажется, это излишний активизм, спешка, суета, которые преследуют нас повсюду, особенно в таких больших городах, как Москва. Необходимое же условие понимания — это остановка, созерцательная вдумчивость.
В одном известном психологическом эксперименте ребенку предлагалось достать конфету, лежащую высоко на шкафу, при этом в поле зрения ребенка находились разные предметы, которыми можно было воспользоваться, чтобы помочь себе. «Ты подумай, подумай», — намекает экспериментатор одному мальчику, который безуспешно пытается подпрыгнуть все выше и выше. Тот отвечает: «Да что тут думать, прыгать надо!» Как часто мы сами в нашей спешке напоминаем этого мальчика!
В одной из своих бесед митрополит Антоний сравнивает нашу жизнь с рисунком-загадкой из детской книжки. Среди бессмысленного переплетения линий ребенку нужно найти изображение зайца, волка и т. п. Сделать это не так просто, перед этой картинкой надо посидеть, приглядеться, настроиться так, чтобы изображение проступило как бы само.
Есть способ познания хищный, агрессивный, когда мы силою или хитростью берем знание, выпытываем, вырываем тайну у природы, как говорят,«раскалываем» человека, а есть другой тип познания — это познание откровенное. Если мы входим в состояние готовности, ожидания, тонкого прислушивания, то из тишины сама собой проступает смысловая реальность, беспорядочные линии начинают складываться в осмысленное изображение, а чужая душа открывается нам навстречу.
Такой образ познания чем-то похож на эстетическое любование. Идеи Владыки о значении красоты в восприятии другого человека мне кажутся очень важными, они могутбыть поняты даже как некие практические рекомендации. Карл Роджерс, о котором речь шла в начале, также говорил, что нужно научиться порой смотреть на другого человека так, как, например, мы смотрим на закат. Закат может быть нежен, может быть грозен, но нам не приходит в голову что-нибудь исправить в нем, улучшить, усовершенствовать или как-то использовать, мы просто принимаем его в его данности, так, как есть. Такой способ восприятия возможен только по ту сторону активизма, целеполагания, спешки.
Что еще нам мешает войти в жизненный мир другого человека и по-настоящему встретиться с ним? Штампы, шаблоны, в том числе и благочестивые нравственные правила. Мало кто из нас считает себя законником и смог бы или захотел сам выдерживать все напряжение закона. Но, оказавшись перед выбором — суббота для человека или человек для субботы1, мы, по отношению к другому человеку, очень часто выбираем именно «субботу».
В докладе отца Стефана Хедли речь шла об отношении митрополита Антония к самоубийству. Тема эта сама по себе является пугающей. В тот момент, когда мы слышим о самоубийстве, все наши мысли как бы останавливаются, замирают. Мы знаем, что самоубийство, с одной стороны, является глубочайшей трагедией, с другой — смертным грехом. Это понятие — «смертный грех» — тут же парализует нашу способность думать, чувствовать, взаимодействовать с этой реальностью. Владыка же каким-то удивительным образом умел бесстрашно взглянуть за тот предел, у которого наша мысль обычно останавливается, и, рискуя быть обвиненным во всем что угодно, поставить вопрос — «а что дальше?» Мужество творческого взгляда — так бы я назвал этот урок Владыки нам.
Еще одна причина, мешающая понимать другого человека, эта наша болезненная уязвимость.Мы вспоминали метафору поврежденной иконы, которой является грешный человек. Но икона, какая бы она ни была загрязненная, растрескавшаяся, потемневшая, просто пребывает перед нами в своей тихой убогости, ожидая, может быть, того часа, когда ее коснутся руки реставратора. В отличии от человека, она не хулит нас, не досаждает, не лжет, не предает, не плетет интриги, и поэтому воспринимать ее как святыню легко.
Что же касается наших отношенийс другими людьми, то даже участие к ним часто оборачивается своей драматичной стороной — мы зачастую оказываемся обижены и задеты как раз тем человеком, которому адресовано наше понимание и участие. Именно это становится барьером, который мешает нам войти в мир другого, почувствовать его правду и боль.
Эту проблему поднимал в своем докладе и отец Христофор. В хосписе умирает ребенок. Священник хочет поддержать родителей, оказать им душевную и духовную помощь. Но неожиданно он сам, а вместе с ним Церковь и Бог, подвергаются потоку различных обвинений с их стороны. Конечно, эта агрессия является выражением безутешного горя, криком нестерпимой боли, но прежде чем понять это ты, как живой человек, просто страдаешь от несправедливости этих претензий и упреков.
Как справиться с этим? Общих рецептов, конечно, нет, но мне снова вспоминается один эпизод из мастерской Карла Роджерса. Молодой человек, участник группы,о которой я уже упоминал, неожиданно стал довольно дерзко и напористо обвинять его в применении двойных стандартов: «Вы несправедливы к N! Когда другой человек сделал то же самое, Вы реагировали совсем иначе!» Восьмидесятичетырехлетний Карл Роджерс, профессионал с мировым именем, прибывший из тогда еще очень далекой Америки, совершенно бескорыстно, с благотворительной целью, внимательно выслушал его довольно резкие замечания, помолчал (чувствовалось, что он на время как бы ушел в себя), а затем сказал: «Знаете, я этого не заметил, но если Вы снова обратите на это внимание, скажите мне, я это продумаю». Он не обиделся, не оскорбился, не отверг обвинения, но и не согласился с ними сразу, он выразил готовность опытно проверить их, проявив уважение по отношению к своему оппоненту.
Итак, способность слышать и понимать другого оказывается связанной со способностью слушать себя, быть собой, опытно проверять чужое мнение, ища истину, а не защищаясь от нее, видеть в обидчике своего потенциального, если хотите, учителя, который открывает тебе иной угол зрения.
Еще одно препятствие нашему пониманию можно назвать страхом попустительства. Мы часто незаметно для себя занимаем исключительно менторскую, воспитательскую позицию не только по отношению к нашему ребенку, но и к супругу, сотруднику, начальнику или подчиненному.
Наша реакция на страдание другого часто такова — «сам виноват». Мы опасаемся, проявив свое сочувствие, которое может быть понято им как прощение, а то и как поощрение, упустить шанс преподать ему урок. Но не уподобляемся ли мы в таком случае дрессировщику, который, используя механизм условного рефлекса, формирует желательное поведение у подопытного животного? Человек же особое существо. От понимания он иногда начинает добреть, а от строгих воспитательных мер — укрепляться в своем бесчинстве.
Одержимые воспитательной установкой, мы нетолько не можем понять другого, а намеренно проявляем волю к непониманию: «Я это отказываюсь понимать». Однако понять человека вовсе не означает солидаризоваться с егопоступком. Тем не менее непонимание мыслится как особый воспитательный акт, средство воздействия и исправления во благо самому человеку. Но факты говорят о том, что и взрослый, и ребенок всей душой отзываются как раз на понимание.
Расскажу один эпизод, которому я был свидетель. Двухлетняя девочка, дочка соседей, гуляя во дворе, схватила чужую игрушку, но родители отобрали ее и вернули законному владельцу. Девочка поднимает рев, и вот уже полчаса ее не могут успокоить. Вдруг кто-то говорит ей: «Анечка, тебе ужасно обидно, что у тебя забрали эту лопатку, да? Тебе хотелось еще покопать ею, поиграть?» И тут происходит маленькое чудо. Девочка замолкает, буркает: «Да!» и, тихо всхлипывая, покорно бредет домой. Уже не игрушка была важна ребенку, важно, чтобы кто-то назвал словом то, что было у него на душе, чтобы это слово выразило ту обиду и неудовлетворенность, которые измучили и самого ребенка и окружающих. Таких эпизодов можно было бы привести множество.
Неназванные словом душевные состояния напоминают мне порой тех безымянных тварей в Эдемском саду, которые еще не успели получить от Адама свои имена. Представьте, ходит какой-то зверь и сам себя не знает. Унего грива ихвост с кисточкой, но кто он такой, как ему жить на этой земле — он понятия не имеет. Адам говорит: «Ты — лев». И на душе у льва становится радостно — он наконец обрел свое имя, понял себя и может жить в соответствии с этим знанием. Владыка Антоний упоминает о том, что, согласно Иоанну Богослову, нечто подобное, видимо, произойдет и с нами, когда Господь назовет каждому его таинственное имя, которое пока скрыто от нас.
Это происходит во время каждого маленького акта понимания и называния одним человеком чувств другого.Уже не тело своими зажатыми мышцами, гормональными всплесками, аффективными реакциями удерживает это чувство, но человеческое слово воплощает его, вызывая облегчение и ясность. Язык не только «дом бытия», он еще и «дом чувства».
И, наконец, последнее, что, мне кажется, очень мешает нашему пониманию, — это страх. Понимание — всегда риск для того, кто занимает позицию понимающего. Но в чем, собственно, он заключается? Стремясь понять другого, мы рискуем той безопасной дистанцией, которая позволяет нам оставаться в стороне. Если мы посмотрим на мир глазами нашего собеседника, войдем в тяжелые обстоятельства его жизни, то нам уже будет трудно отстраниться. Мы словно попадаем в некое силовое поле, более мощное, чем наша воля. Может статься, оно будет требовать от нас быть жертвенными, бескорыстными, смелыми, словом, повлечет за собой большие затраты. В этом смысле ближним быть не удобно. Лучше быть дальним. А еще лучше и спокойнее быть где-то посередине, неким средним. Это самая безопасная дистанция: и моральное самочувствие не страдает, и ответственность отсутствует. Именно поэтому мы часто бессознательно противимся тому, чтобы стать ближним, применяя некую стратегию непонимания, объективации, отчуждения. Существуют профессии, которые провоцируют развитие этой «способности», причем не только те, что в общественном сознании воспринимаются как заведомонегуманные, но и, напротив, самые гуманные профессии, такие как врач и учитель. В последнем случае внутренняя отчужденность может являться своего рода защитной реакцией на коммуникативную и эмоциональную усталость.
Исследования в области психологии преступности показывают, что прежде чем совершить насилие, злоумышленник должен как бы расчеловечить для себя свою жертву, превратить ее в объект. Но есть и обратная закономерность — понимание страданий другого приводит к благотворному изменению личности преступника. В исправительных учреждениях некоторых стран существует такая практика, когда осужденный встречается со своей жертвой или родственниками жертвы. Это оказывается действенным способом дать ему шанс почувствовать всю глубину той трагедии, причиной которойон стал, пробудить в нем утраченное человеческое начало, встать на путь покаяния и исправления.
Итак, мыснова видим, чтопонимание есть нестолько дело ума, сколько дело нашей воли, решимости,желания. И тот, кто отважится совершить акт понимания, получит щедрую награду. Этой наградой будет — Дар Встречи. Именно этот Дар находится в центре духовной вселенной митрополита Антония, и категория понимания пронизывает собой все измерения этой вселенной.